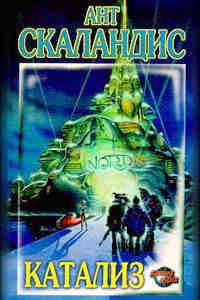А то всплывала в памяти квартира родителей в уютном московском переулке, мамино «фирменное» обсыпанное сахаром печенье, вырезанное с помощью потемневших от времени жестяных формочек, крепкий чай, заваренный отцом по-своему, с кипячением – вопреки всем рецептам, старенький скрипучий диван, раскрашенные фотографии по стенам, голуби, воркующие на широком карнизе…
Ленка вспоминала Чехословакию, удивительные улицы старой Праги, небольшие магазинчики, крохотные пивные бары и ни с чем не сравнимое ощущение новизны, экзотики, исключительного везения… Теперь весь мир был у нас на ладони. Но что-то очень важное – потеряно.
А иногда с нежностью и грустью мы начинали вспоминать что-нибудь совсем уж несуразное. Нашу военную кафедру, например, с ее тупоголовыми офицерами и унылой, казенной аккуратностью учебных классов. Или пропахшую эфиром и йодом районную поликлинику с безграмотными равнодушными врачами и никудышным оборудованием. Или – убогую толпу помятых мужиков у пивного ларька…
Но это были издержки ностальгии. Не обо всем стало жалеть, с многими надлежало расстаться с радостью, а многое другое, о чем грустилось почему-то как об утраченном, на самом деле осталось с нами. Но было одно, к чему с болезненным постоянством скатывались всякий раз мои и Альтера воспоминания, – наша единственная пока настоящая потеря. Мы вспоминали промерзший зимний троллейбус с пушистыми от инея стеклами, и холодный портвейн из темной бутылки, и ломкий на морозе кисломолочный сырок, черствые булочки за три копейки, и Женька с гитарой, дующий на озябшие пальцы, и Рюша Черный, неистово рубящий ладонью воздух… – И я начинал плакать. И Альтер тоже.
Мы еще умели плакать тогда.
Нечто чудовищно несправедливое было в том, что ребята погибли именно из-за экрана, возведенного Апельсином или мифическими хозяевами его для каких-то своих, так и не понятых нами целей. Нет, я никогда не верил в бредовую идею Тимура Сингха, что все это сотворил я сам, и даже в более научную гипотезу о том, что Апельсин притянут на Землю моим замыслом, но – как там у Твардовского? – все же, все же, все же… Я не мог не ощущать вину за их гибель.
Первое время, как раз в те дни, когда мы были в Пансионате, еще обсуждался вопрос о целесообразности поисков тел погибших, но потом на страну и мир обрушилась такая бездна проблем, что вопрос отпал сам собой. Помню, я пытался связываться с кем-то, от кого зависели эти поиски, и объяснял, что с появлением сибр-технологии сама задача сильно упростилась. Неужели так трудно найти группу людей для благородного дела? Представьте себе, трудно. В условиях начавшегося Катаклизма это оказалось почти нереальным. Конечно, было в моих силах организовать самому экспедицию, но ведь и мне было некогда, а главное – не очень-то и хотелось отыскивать трупы своих друзей. Я боялся увидеть их мертвыми. Известно, каким бы достоверным не было известие о смерти, пока не увидишь тело, остается надежда. Я знал, что надеялся не на что, и все же…
Поиски не были начаты. Оснований для них чем дальше, тем становилось меньше. Стремительно менялось отношение человечества к трупам. Могилы выходили из моды. Из крематориев не забирали урны. Сами крематории заменялись зероториями, причем стало принятым символически превращать умерших в цветы, хлеб, вино, золото, камни, но чаще, конечно, просто в воздух и воду. Так зачем же было искать теперь старые замерзшие трупы? Чтоб зеротировать? Глупо. Ледовый простор океана был лучшей могилой для полярников.
Благодарное человечество не забыло своих героев: в Москве им поставили памятник, в музее полярной славы в Норде их экспедиции посвящена целая комната, несколько книг вышло об их походе – мне даже казалось, что все это чересчур. И за ненайденные тела погибших никого совесть не мучила. Меня – если честно – тоже. Пока однажды к нам в Оранжевую не приехала Катя Беленькая, Катрин.
Она не была женой Черного, хотя они прожили вместе больше пяти лет. Рюша любил ее, был ей верен, хоть это и могло показаться странным на фоне тех веселых сборищ, что проходили регулярно у них на квартире, Рюша не мыслил себя без нее, но жениться не собирался, отшучивался обычно: «Ты же беленькая, Катюша, неужели хочешь стать черненькой?» На деле же просто не решался связывать ни ее, ни себя. Жизнь он вел безалаберную, ни о каких детях, ни о каком тихом семейном счастье не могло быть и речи. Сначала – постоянные тренировки, соревнования, сборы, потом – походы, эксперименты, экспедиции. А Катрин работала в школе (русский язык и литература), но часов брала мало – не деньги были нужны, так, сознание собственной значимости. А главным в ее жизни был, конечно, он – Рюша Черный – ее герой, ее кумир, ее Бог.
Я представлял себе, что означает для Катрин известие о его гибели. Я даже боялся позвонить ей. И вот она приехала сама.
С КПП мне позвонил полковник Чумнов. В нашей охране все были не ниже майора по званию – не мудрено: по стране в целом армия состояла из одних офицеров. Полковник доложил о прибытии Беленькой Екатерины Сергеевны. Я даже не сразу понял, кто это.
– Привет, Ваше Величество, – сказала Катрин, поднимаясь на веранду, куда я вышел встретить ее, – не прорвешься теперь к тебе.
Поговорили о том о сем. Сначала весело, просто, потом стала ощущаться некоторая напряженность. Быть может, Катрин болезненно воспринимала разницу в положении, возникшую между нами. Я же боялся заговорить о ребятах, хотя именно о них, только о них хотелось говорить. Катрин сама сломала этот барьер.
– Знаешь, Витька, а я не верю, что они погибли.
Она сказала это внезапно, после паузы, и я сразу понял, что именно за тем, чтобы сказать это, она и пришла ко мне.
– Я тоже не верю, – почти не соврал я. – Ведь надежда всегда остается.
– Ты не понял. Я совершенно серьезно считаю, что они живы. Я много думала об этом.
Я молчал. Я не знал, что ответить. Я даже подумал, уж не помутился ли от горя ее рассудок.
– Они живы, Брусника. Их надо спасти. Надо возобновить поиски.
– Но это невозможно, Катрин.
– Что невозможно? Возобновить поиски?
– Невозможно считать, что они живы. Без анафа нельзя прожить на морозе так долго. А спецсосуды были полными.
– А если это были не их сосуды?
«Какая дикая мысль! – подумал я. – Чьи же? Белых медведей, что ли?»
– Исключено. На них стояли номера.
– Но они же не могли просто так их выбросить.
– Не могли. Случилось несчастье. Ты же знаешь официальную версию: элементарная подвижка льдов.
– Я не верю. Они не могли оставить спецсосуды. Андрей никогда не сделал бы этого. У них было что-то еще, кроме анафа.
«Бедная девочка, – думал я. – Что у них могло быть еще, кроме анафа? Зачем она утешает себя?»