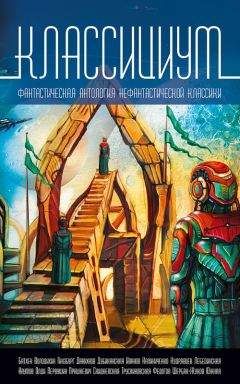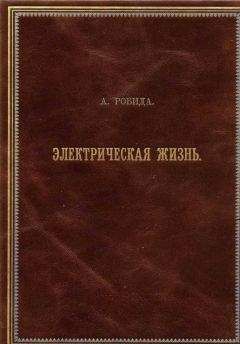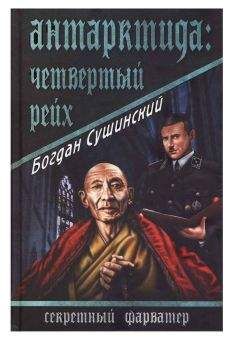Гулкая трактирная машина скрежетала вальс из «Евгения Онегина». Пахло салом и жареным луком. Возле машины сидела околоточная и философствовала.
– Полетела Россия-матушка, – говорила она с умилением. – Сидела-сидела и полетела. Фр-р р! Под самые облака! Благодать! Только надо дело говорить. Скажем, насчет паспортов. Мужичке, скажем, волость не выдает вида, а она села на шар и фыр-р рть куда хочет. Это никак нельзя!
– Так ведь привязали уже наверху шар для воздушного участка, – сказала трактирщица, перетиравшая стаканы. Будет как наверху, так и внизу. Наверху – приставша, и внизу – приставша. Внизу – околоточная, и наверху – околоточная.
– К чему?.. – обреченно прошептала Дарья Петровна.
– И городовые будут на дежурных баллонах летать. Вон городовая Василиса Иванова уже учится. Вчера приходила, настойку просила, ногу растереть, потому – свалилась с баллона. А так – милое дело. Она тебе: ваше благородие, беспашпортные поднялись! А ты ей: беспашпортных волоки сюда, уж я разберусь!
– А предъявила паспорт – лети, рази ж кому жалко! Воздуху хватит! – добавила околоточная.
– На большом шаре ресторант открыли, – сообщила трактирщица. – Только сказывали – ресторанты будут держать на коротких канатах, чтобы в чужие участки не залетали. Или проволочные решетки будут ставить, высокие, сажен на пятьсот. Отдельные кабинеты со стеклянным полом! Входная плата – сама собой, а кабинет – отдельно, и на балкончик выйти – тоже отдельно.
– Уж я непременно наверх попрошусь, – сказала околоточная. – Уж из кожи вон вылезу, а наверх порхну!
– Водочки, – сказала тетя Маша. – И селедкой закусить. Страсть как люблю селедку с лучком.
Тут наша демоническая женщина, словно проснувшись от такого простонародного желания, вдруг завопила:
– Селедка? Да, да, дайте мне селедки, я хочу есть селедку, я хочу, я хочу! Да, да, дайте мне луку, дайте мне много всего, всего, селедки, луку, я хочу есть, я хочу пошлости, скорее… больше… больше, смотрите все… я ем селедку!
Околоточная шарахнулась от нее и потеряла фуражку.
В конце концов все пошли на компромисс и заказали себе заливной осетрины, Степке и денщихе – горохового киселя с постным маслом. Понемногу в трактире собиралась публика, желавшая в стереофотокинескопограф. Набралось человек сорок. Трактирщица послала парнишку, он побежал, вернулся и сказал, что господ просят. Мы снова вышли на поле и гуськом побрели среди всяких непонятных, но очень больших железных штук к подъемному колесу. От колеса нужно было еще карабкаться четыре пролета по лестнице и переходить в корзину по парусиновому рукаву. Мне заранее сделалось страшно. Но прислуга бестрепетно шагала за нами. Степка, разумеется, был в воротнике с бантиком. Воротник вел себя развязно до неприличия и вертел Степкиной головой направо и налево. Слесарихи и механички причмокивали и свистели ему вслед.
Нас остановили у колеса, велели ждать. Тетя Маша, задрав голову, всматривалась в какие-то пестрые лоскутки, развевавшиеся на тросах.
– Черт побери! – сказал Уткин. – Ведь они сигнализируют. Гм… Два красных, два голубеньких… Это значит «Мы на мели».
– Несчастные! – воскликнула Дарья Петровна, глядя вверх в лорнет.
– А вот другой знак выкинули, – указал веером Уткин. – Два пестрых, два белых… «Голодаем», что ли?
– К чему? – скорбно спросила Дарья Петровна.
– Какое «голодаем», там же у них ресторан! – возмутилась тетя Маша, и вдруг ее осенило: – Так, это надобно запомнить. Непременно интенданты проворовались.
– И вон – три пестрых, два синих. «Нет воды».
– Ох уж, я их проинспектирую, – с загадочным сладострастием прошептала тетя Маша.
– Или я совсем ослеп, или они подают сигнал «сдаемся без боя», – страшным шепотом отвечал ей Уткин.
– Разве это военный циолколет? – вдруг с опозданием удивилась тетя Маша. – Постойте! Военные у нас «Фельдмаршальша Кутузова» и «Полковница Репкина»! Они еще не пришли из Гельсингфорса, я точно знаю. Что же эта дура «Циолковская» сдается?! Кому?!
– К чему?.. – пожала плечиками Дарья Петровна.
– «Идем ко дну»… – растерянно прочитал Уткин по вывешенным на тросах циолколета тряпицам. – Да где ж тут дно?!
Тут мимо нас к мачте пробежала молоденькая механичка с кольцами троса на плече.
– Постой, сестрица! – задержала ее тетя Маша. – Ты ведь с этой мачты?
– С этой, вашбродие! За тросом послали, хотят стыковочный узел ближе к земле подтянуть.
– Что там у них происходит? Что за бордель?! То на мель сели, то сдаются! – Тетя Маша пробовала новые для себя раскаты генеральского голоса, и у нее получалось не хуже, чем у госпожи Шаляпиной.
Механичка подняла голову и проследила, на что указывал тетин перст.
– Так это, вашбродие, гвардейский экипаж стирку устроил, панталончики с рубашечками сушат, а вот корсетка! Не извольте пужаться!
Наверх мы поднимались молча, и каждый глядел в свою сторону.
Выйдя из кабинок, мы поползли вверх по лестницам. Вниз старались не смотреть. Довольно было и того, что незнакомая дама в шляпе с морковной ботвой и маленькими помидорчиками то и дело поглядывала, а потом с гордостью восклицала так, будто она одна тут, на мачте, понимала смысл слова «нервы»:
– Прямо у меня все нервы трещат!
Потом мы вошли в рукав. Он колыхался и доверия не вызывал. Степка тихонечко заскулил. Денщиха, напротив, бодрилась и, пользуясь возможностью, облапила Степку за талию. Тогда он стал попискивать, что означало: убери лапищи, бесстыжая, и в то же время не убирай, иначе я со страху помру.
Наконец все мы оказались в первой из корзин. Впрочем, «корзина», это так, слово с давних времен. На самом деле нижнее помещение, подвешенное к «Циолковской», было не из прутьев сплетено, а сколочено из досок и имело почтенные размеры – я думаю, шесть сажен на двенадцать. Нужный нам стереофотокинескопограф находился в торце и туда следовало пробираться по узкому коридору. Наконец мы вошли в комнатушку и уплатили за билеты мощной контролерше в ярко-красной кофте, стянутой старым офицерским поясом. Ее натертые свёклой круглые щеки соперничали колоритом с надписью на боку циолколета. Волосы грязно-серого цвета были жирно напомажены и взбиты в высокую прическу, увенчанную розеткой из гофрированной зеленой бумажки с аптечного пузырька. Степка загляделся на это великолепие.
Завитой мужчина в сюртуке салатового цвета и в соломенной шляпке с розами стал тыкать указкой на большой белый экран, где возникали виды городов и всякая архитектура, нагонявшая мысли о кладбище и надгробном ангеле. Сперва они были цветные и, хотя афиша обещала полное ощущение объема и своего собственного присутствия в этих нарисованных Афинах или Мадридах, ничего такого мы не заметили.