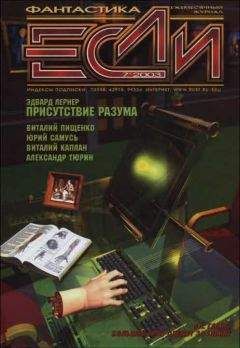Печататься Замятин начал поздно, когда ему уже было под тридцать. И сразу же обратил на себя внимание. Первыми повестями и рассказами заявляет о себе как бытописатель российской провинции, но вскоре пишет повесть «На куличках» о провинциальном гарнизоне. В ней он настолько смел, настолько беспощаден к косной российской военной машине и людям, которые ее олицетворяют, что журнал с повестью конфискуется цензурой, а Замятин вновь попадает под суд — за оскорбление в печати российской армии.
Во время войны Замятин вернулся к своей профессии и был отправлен в Англию. Там он участвовал в проектировании и строительстве ледоколов, в частности, знаменитого впоследствии ледокола «Красин» (в те дни он назывался «Святогор»). Замятин был автором аванпроекта и одним из создателей ледокола «Ленин» (бывший «Александр Невский»). Почти два года он провел в Лондоне, днем упорно работая на верфи, ночью — над книгой «Островитяне». Книга была об англичанах, сам писатель назвал ее сатирической. Книгу высоко оценил Горький.
Октябрьская революция была и его революцией.
Новая жизнь грянула, как говорил Замятин, «в веселую и жуткую зиму 17–18 года». И началась невероятная по объему и многообразию деятельность революционера и созидателя Замятина. Большей частью Замятин работал вместе с Горьким — он участвовал во всех крупных культурных начинаниях того времени — во «Всемирной литературе», Союзе деятелей слова, Союзе писателей, Доме искусств… При том успевал редактировать журнал, писать статьи, ставить пьесы, читать лекции. Кораблестроитель стал общественным деятелем всероссийского масштаба, соратником и другом Максима Горького… Время неслось беспощадно; потом уже, через много лет, вспоминая об этих днях, Замятин не скрывал определенной иронии к многочисленным и часто нереальным прожектам, да и к собственному в них участию.
В статье памяти А. Блока он писал: «Три года затем мы все вместе были заперты в стальном снаряде — во тьме, в темноте, со свистом неслись неизвестно куда…»
В те годы Замятин ищет в фантастике художественное воплощение действительности. И образ снаряда, несущегося вперед, возникает вновь в романе, который Замятин тогда задумал. Об этом он вспоминает в своей статье памяти Горького.
Дело было поздней осенью 1917 года. «Сидя в заставленном книжными шкафами кабинете Горького, я рассказал ему о возникшей у меня в те дни идее фантастического романа. Место действия — стратоплан, совершающий междупланетное путешествие. Недалеко от цели путешествия — катастрофа. Междупланетный корабль начинает стремительно падать. Но падать предстоит полтора года! Сначала мои герои, естественно, в панике, но как они будут вести себя потом?
— А хотите, я вам скажу, как?
— Горький хитро пошевелил усами.
— Через неделю они начнут очень спокойно бриться, сочинять книги и вообще действовать так, как будто им жить по крайней мере еще лет 20. И, ей-богу, так и надо. Надо поверить, что мы не разобьемся, иначе наше дело пропащее».
Роман, удивительно современный по фабуле и настроению, так и не был написан. Но приближение к роману, уже другому, совершалось.
В те дни Замятин пишет короткие рассказы, герои их стараются найти место в мире, который настолько фантастичен, что оставляет позади любое воображение. И даже если формально рассказы эти могут проходить по реалистической епархии, они пронизаны фантастическим восприятием действительности.
Замятин старается понять, какой должна быть революционная литература, и мысли об этом можно встретить в разных его статьях того времени.
Сначала о гражданской позиции писателя: «Служба государственному классу, построенная на том, что эта служба выгодна, революционера отнюдь не должна приводить в телячий восторг… Собачки, которые служат в расчете на кусочек жареного или из боязни хлыста, революции не нужны. Не нужны и дрессировщики таких собачек. Нужны писатели, которые ничего не боятся — так же, как ничего не боится революция; нужны писатели, которые не ищут сегодняшней выгоды — так же, как не ищет этого революция (недаром же она учит нас жертвовать всем, даже жизнью, ради счастья будущих поколений — в этом ее этика); нужны писатели, в которых революция родит настоящее органическое эхо».
«Цель искусства и литературы в том числе — не отражать жизнь, а организовывать ее, строить ее <…>. Настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а безумцы, скептики. А если писатель должен быть благоразумным, должен быть католически правоверным, должен быть сегодня — полезным, не может хлестать всех, как Свифт, не может улыбаться надо всем, как Анатоль Франс, — тогда нет литературы бронзовой, а есть только бумажная, газетная, которую читают сегодня и в которую завтра завертывают глиняное мыло».
Этим своим принципам Замятин следует в первые годы советской власти. И так как он не прибегает к стыдливым формулировкам — «некоторые», «кое-кто», — а всегда называет своих идейных противников, чиновников от литературы, поименно, да еще с достаточно обидными эпитетами, то и они копят злобу, надеясь отомстить.
Для чиновников новой генерации революция благополучно завершилась. Они срочно строят догму, незыблемую, покрытую твердой коростой непогрешимости. И писатели честные, независимые, далеко не всем угодны. Хотя тронуть Замятина пока трудно — он старый революционер, он на виду, он признанный вождь ленинградских писателей.
К другим подбираются. С другими можно расправиться, чтобы Замятиным неповадно было витийствовать.
…Горький с Замятиным возвращались из Петрограда в Москву. «Была ночь, весь вагон уже спал. Вдвоем мы долго стояли в коридоре, смотрели на летевшие за черным окном искры и говорили. Шла речь о большом русском поэте Гумилёве, расстрелянном за несколько месяцев перед тем. Это был человек и политически, и литературно чуждый Горькому, но тем не менее Горький сделал все, чтобы его спасти. По словам Горького, ему уже удалось добиться в Москве обещания сохранить жизнь Гумилёву, но петроградские власти как-то узнали об этом и поспешили немедленно привести приговор в исполнение. Я никогда не видел Горького в таком раздражении, как в эту ночь».
Сегодня мы знаем, что Гумилёв не был заговорщиком, террористом и врагом советской власти. Он был оклеветан, ибо мешал тем, кто вскоре примется за Замятина…
Замятин был убежден, что советская литература двадцатого века — это, в первую очередь, литература фантастическая.
Это убеждение исходило из двух важных предпосылок.
Первая: художник должен быть еретиком. Только еретики могут двигать вперед социальный прогресс, будоражить и разрушать догмы. Фантастика — наиболее удобное и точное оружие в руках художника, особенно в стране, пережившей революцию и гражданскую войну. Только она должным образом может отразить грандиозные перемены и перспективы общества. Из различных его высказываний на этот счет можно привести такое: «Окаменелая жизнь старой дореволюционной России почти не дала — не могла дать — образцов социальной и научной фантастики… Но Россия послереволюционная, ставшая фантастичнейшей из стран современной Европы, несомненно отразит этот период в своей истории и фантастике литературной». В одном из споров с вождями ненавистного ему РАППа, которые требовали от литературы оперативных откликов на достижения народного хозяйства, Замятин говорил: «Дело специалиста говорить о средствах, о сантиметрах; дело художника говорить о цели, о километрах, о тысячах километров… о великой цели, к которой идет человечество».