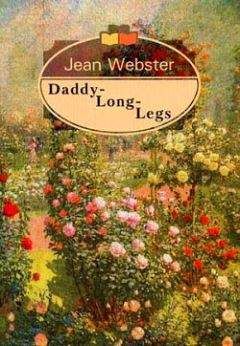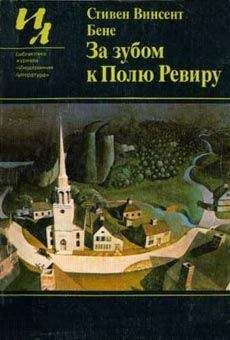class="p1">Паррингтон затянулся сигарой и зашагал дальше. Потому что двери клуба «Мом» вдруг распахнулись, выпустив поток света и невысокого, коренастого седого человека с задранным носом и ухмылкой сделанного из тыквы фонаря. Минуту он стоял на крыльце, отвечая на десятки пожеланий доброй ночи и смеясь. Лейн Паррингтон прибавил шагу, но напрасно. За спиной послышались торопливые шаги, уверенный возглас: «Ноль-восьмой! – а потом: – Лейн Паррингтон, чтоб мне провалиться!» Он остановился и обернулся.
– А, привет, Шлюп, – вяло обронил он. – У вас ужин тоже закончился?
– Ну ребята наверняка просидят до трех. – Шлюп Фэрчайлд вытер розовый лоб. – Но спустя полтора часа я им так и сказал: пусть посадят к пианино какого-нибудь другого бедолагу. А я уже не тот, что в молодости. – Комично отдуваясь, он взял Лейна Паррингтона за руку. – На встречу выпуска? Мне бы лучше не ходить, Минни меня убьет. Но я пойду.
– Что ж, – неловко откликнулся Лейн Паррингтон, который терпеть не мог, когда его держали за руку. – Полагаю, надо идти.
– Долг, мистер Покой, вечный долг, – хмыкнул Шлюп Фэрчайлд. – Эй, иди помедленнее, старику за тобой не угнаться. – Он остановился и снова вытер лоб. – Кстати, – добавил он, – у тебя славный парень, Лейн.
– А-а, – смущенно ответил Лейн Паррингтон. – Спасибо. А я и не знал, что…
– Виделся с ним прошлым летом, – жизнерадостно объяснил Шлюп Фэрчайлд. – Сильвия приводила его домой. Если бы захотел, мог бы стать неплохим баритоном.
– Баритоном? – повторил Лейн Паррингтон. – Сильвия?..
– Старшая из дочерей, краса и гордость Шато-Фэрчайлд. – Язык у Шлюпа Фэрчайлда слегка заплетался. – Она их коллекционирует… не всегда, но всякий раз – с папиного одобрения. А твой – славный парень. Серьезный, само собой. – Он снова хмыкнул, будто издеваясь, как показалось Лейну Паррингтону. – «О, сказал адмиралу матрос, и услышал в ответ от него…» – запел он. – Помнишь эту, Лейн?
– Нет, – ответил Лейн Паррингтон.
– Ну правильно, – дружелюбно подхватил Шлюп Фэрчайлд, – вот я балда. Почему-то решил, что ты был в квартете. А на самом деле – милый старина Поззи Бэнкс. Бедняга Поззи «Последнюю летнюю розу» мог спеть только пьяный в стельку. Большой талант. Так надеялся застать его здесь на этот раз, а он не смог. Приехать-то он хотел, – продолжал бубнить Шлюп, – вот только на дорогу не хватило…
– Очень жаль, – серьезно сказал Лейн Паррингтон. – Но бизнес уже на подъеме, так что…
Шлюп Фэрчайлд кинул на него удивленный взгляд.
– Господь с тобой! – воскликнул он. – У Поззи никогда не было ни гроша. Но с ним весело. – Он потянул Лейна Паррингтона за руку, они свернули за угол и увидели над дверью электрическую вывеску «1908». – Ну вот мы и пришли!
Час спустя Лейн Паррингтон сделал вывод, что все идет точно так, как он и ожидал. Пьянчугу из неизвестного выпуска отправили домой. Зато явились другие, из других выпусков. А Шлюп Фэрчайлд сидел за пианино.
Сам он неудобно вклинился в глубине комнаты между Эдом Раннером и еще одним человеком, кажется, по фамилии Фергюсон или Уайтлоу, который, во всяком случае, обращался к нему «Лейн, старина». Это затрудняло разговор, потому что сложно решить, как называть соседа – «Ферги» иди «Уайти», если не знаешь точно, кто он такой. Впрочем, так же трудно складывался разговор с Эдом Раннером, ибо сей джентльмен пустился в бесконечные воспоминания, суть которых заключалась в точном расположении комнаты Билла Уэбли на втором году обучения. Поскольку Лейн Паррингтон ни разу не бывал ни в одной из комнат Билла Уэбли, он мало что мог добавить к обсуждению. Вдобавок он пил пиво, которое никогда не шло ему на пользу, и дым сигар разъедал ему глаза. А вокруг певца и пианино бурлило пестрое сборище выпускников из всех групп, курсов и выпусков – римские тоги 1913 года, тюремные полоски 1935-го, шорты и пробковые шлемы путешественников 1928 года. Потому что каким-то образом по местам собрания разных выпусков разошлись вести о том, что Шлюп Фэрчайлд устраивает представление, и там и сям в толпе попадались нынешние студенты, которые слышали от старших братьев и дядей о Шлюпе Фэрчайлде, но никогда прежде сами не видели его во плоти.
Он рассказал историю о вожде кикапу, он изобразил разговор президента Доджа по телефону. Лейн Паррингтон с изумлением отметил, что и эти, и другие старания были приняты возбужденно и бурно. Потом Шлюп взял несколько аккордов и крутанулся на табурете.
– А теперь, – начал он, и его лицо херувима стало донельзя серьезным, – представляю мой последний и заключительный номер – подражание попыткам дорогого старины Поззи Бэнкса исполнить под влиянием спиртного «Последнюю летнюю розу». Далеко не всем вам выпала честь знать дорогого старину Поззи, обладателя разнообразнейших и выдающихся талантов, и мы горько сожалеем о том, что сегодня его нет с нами. Но тем из вас, кто не удостоился чести знать Поззи лично, в качестве вступления сообщу, что дорогой старина Поззи сложением был несколько схож с грузовиком и что под влиянием спиртного имел обыкновение петь непосредственно себе в шляпу, которую держал перед собой на манер подноса для визиток. А теперь начнем. – И он крутанулся в обратную сторону, взял несколько заунывных нот и запел.
Даже Лейну Паррингтону пришлось признать, что это было чрезвычайно смешно. Он услышал, как присоединился к раскатистому, неистовому взрыву хохота в конце первого куплета, досадовал на себя, но удержаться не мог. По некоему волшебству благодаря ловкости жестов или голоса лысый толстячок вдруг превратился в печального молодого здоровяка, чуть захмелевшего, но все еще движимого лучшими намерениями и поющего заунывно и сентиментально в собственную шляпу. Этому фокусу, актерству и ловкости не стоило учиться, однако они действовали безотказно. Лейн Паррингтон обнаружил, что смеется до колик, а Фергюсон – или Уайтлоу – рядом с ним вопит что есть мочи.
– А теперь, – объявил Шлюп Фэрчайлд, пока все еще смеялись, – пусть сыграет тот, кто умеет!
И он магическим мановением согнутого пальца вызвал из толпы темноволосого студента, усадил его на табурет к пианино, как-то сумел пробраться сквозь толпу, несмотря на давку, и исчез, пока в зале еще выкрикивали его имя.
Немного погодя Лейн Паррингтон опомнился и обнаружил, что вышагивает туда-сюда по плачевного вида двору за помещением, где собирался их выпуск. Там поставили шатер, вынесли железные столики, развесили бумажные фонарики, но в этот час впечатление они производили не слишком веселое. Должно быть, было уже очень поздно, ему давно следовало лежать в постели. Но он не смотрел на часы. Он силился обдумать некоторые обстоятельства своей жизни и привести их в состояние гармонии. Казалось бы,