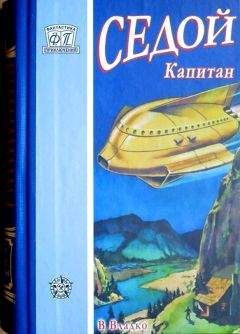Процессия двинулась дальше. Не останавливаясь, падре подобрав одной рукой длинную сутану и ловко взошел по деревянной лестнице на эшафот: было видно, что он давно привык к установленному церемониалу и проделывал его далеко не впервые. Здесь падре стал рядом с высоким палачом, который так же небрежно, в привычной, заученной позе опирался на свой блестящий, остро заточенный топор. Палач ждал: его очередь еще не наступила. Сначала представитель святой католической церкви должен был позаботиться о душе осужденного на казнь.
Падре повернулся и протянул Педро Дорильо черный крест.
— Примирись с Господом Богом, сын мой, – сладким, елейным голосом произнес он. – Тяжкие грехи твои, о, заблудший агнец! Однако милость господня всеобъемлюща. Помолись вместе со мной, преклони колени перед святым крестом. И бог простит тебя, примет душу твою бессмертную в лоно свое, если ты хоть в последнюю минуту твоей земной жизни покаешься, сын мой!.. Преклони колени, примирись с волей божьей, признай свои грехи!..
В тишине, которая царила во внутреннем дворе тюрьмы, было отчетливо слышно каждое слово падре. Палач переступил с ноги на ногу: видимо, ему очень наскучили такие речи.
— Помолись вместе со мной, сын мой! – Продолжал падре заученные призывы. – Всемилостивый Господь Бог смотрит на тебя с высоты своего святого престола. Покайся, и душа твоя очистится перед смертью, войдет в вечную жизнь, где нет ни боли, ни печали. Преклони колени и молись со мной! Кайся, сын мой!..
Педро Дорильо спокойным движением отвел в сторону черный крест вместе с рукой его владельца, с нескрываемым отвращением посмотрел в лживое лицо падре с его елейно сжатыми губами и громко сказал:
— Мне не в чем каяться. Посторонитесь, отец мой, не мешайте вашему соседу делать свое дело.
Падре, всплеснул руками, словно в отчаянии от такого упрямства закоренелого грешника, отшатнулся, но тут же деловито перекрестил своим черным крестом осужденного, хотя тот уже не смотрел на него. И тогда, вновь сомкнув губы, отошел в сторону. На этом его обязанности официального представителя святой католической церкви заканчивались.
Педро Дорильо неподвижно стоял на эшафоте, будто задумался о чем‑то, известном только ему. Палач выпрямился, сделал едва заметное движение головой. Два его помощника появились на эшафоте позади осужденного. Они положили крепкие руки на плечи Дорильо, чтобы вести его к плахе, около которой ждал палач.
Неожиданным резким движением Педро Дорильо оттолкнул обоих сразу, хотя эти люди, видимо, были не намного слабее его самого. Он выпрямился во весь рост, глаза его блеснули.
— Э, пожалуй, его зря вывели со свободными руками, – пробормотал начальник полиции, невольно отступая на шаг ближе к стене. – Как бы не стал сопротивляться…
Нет, Педро Дорильо не собирался оказывать сопротивление. Зачем? Вокруг было столько вооруженных врагов, что об этом не стоило и думать. Но он не хотел и того, чтобы его кто‑то вел, подталкивал, держал. Как отважный человек, перед расстрелом срывает со своего лица повязку, чтобы смотреть прямо в глаза смерти, так и Педро Дорильо хотел мужественно и твердо дойти до неизбежного сейчас конца. У него хватит решимости, он не потеряет самообладания перед всеми этими людишками, которые собрались сюда пощекотать себе нервы кровавой казнью!
Помощники палача колебались, словно взвешивая силу мощных мышц своей жертвы.
А Педро Дорильо стоял одиноко на эшафоте, высоко подняв голову всматривался вдаль, будто искал кого‑то запавшими усталыми глазами. Столько мыслей, столько воспоминаний нахлынуло на него в эту последнюю минуту! За мгновение пролетели они одна за другой, эти горячие, неукротимые мысли, будто вся жизнь с непостижимой скоростью пронеслась перед ним. Но среди мыслей была одна, которая подчиняла себе все другие, несущая боль мысль о единственной, любимой дочери, черноглазой Марте.
Где она сейчас? Что с ней? Как она будет жить одна без него, среди чужих людей?..
Дочка, дочурка, хотя бы раз взглянуть на тебя, увидеть твое милое, еще такое детское личико, прижать к сердцу, поцеловать! Доченька, милая, хотя бы минутку побыть с тобой!
Но вокруг только чужие, холодные, безжалостные враги, любопытствующие людишки, которые сошлись сюда, чтобы развлечься, собственными глазами увидеть, не дрогнет ли перед топором палача затравленный, измученный человек в полосатой одежде арестанта. Не будет этого! Он будет держаться мужественно, хоть для этого и потребуется собрать последние силы, он не дрогнет, окруженный равнодушными врагами. Держись, Педро Дорильо, держись так, чтобы Фредо Виктуре, старый и испытанный друг, узнав о последних твоих минутах, сказал растроганно: «Да, Педро не сдал, он прошел последний путь с честью, как и надлежит мужественному рабочему!»
Худощавое лицо Педро Дорильо просветлело, словно его осветил какой‑то теплый внутренний свет. Теперь он чувствовал себя иначе, выше всех тех, кто окружал его сейчас в этом замкнутом каменном мешке. Он обвел взглядом людей внизу, которые враждебно, но с нескрываемым любопытством смотрели на него, задрав головы. Их интересовало, наверное, что еще сделает этот коренастый, непримиримый заключенный.
А, вы ждете, хищники, звери! Вы хотите еще что‑то увидеть, услышать? Ладно! Педро предоставит вам такую возможность, только сделает это по–своему, так как он предпочитает. И громко, четко выговаривая каждое слово, Педро Дорильо заговорил, гневно бросая тяжелые слова в отвратительные, враждебные лица людей, скопившихся вокруг эшафота.
— Вот вам мое последнее слово, палачи! Запомните его! Вы убиваете меня, как раньше убили сотни и тысячи других честных людей в стране. Эти люди боролись с вами, с кровавыми фалангистами, они погибли за святое дело!..
— Остановите его! – Крикнул возмущенно начальник полиции. Но жандармы только переглянулись: как остановить? Ведь этот человек сейчас ничего уже не боится, никаких угроз, потому что он стоит перед неизбежной смертью…
Педро Дорильо заметил, как помощники палача двинулись к нему. Э нет! Не получится, господа!
— Не подходите! – Гневно крикнул он. – Остановить меня вам все равно не удастся! А когда окончу, можете делать что угодно… да и ничего вам будет делать, я не буду сопротивляться. Поняли? Вот и хорошо. Так вот, господа, – продолжил он, в его голосе зазвенела горечь, – я жалею только об одном. Слишком мало, почти ничего не сделал я для святого дела, за которое умирали мои друзья. И если бы вновь передо мной открылась жизнь, о, я уж знал бы, как ее использовать! Для борьбы с вами, безжалостной борьбы не на жизнь, а на смерть, вот для чего использовал бы я тогда свою жизнь! Теперь можете казнить меня, господа. Но рано или поздно народ казнит вас самих! На вас, угнетателей и кровопийц, падет гнев его! Да здравствует свободный народ!