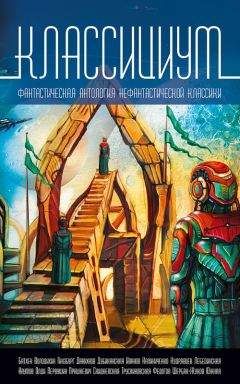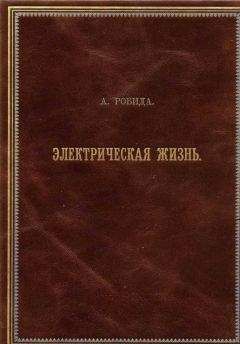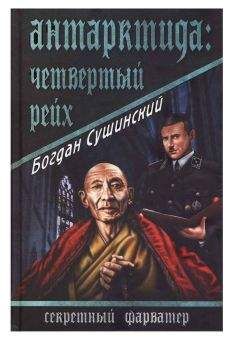Все психиатры знают, что для нервных и слабосильных людей некоторые страдания, несмотря на всю мучительность их, становятся необходимыми. И не променяют они эту сладкую муку на здоровое спокойствие – ни за что на свете. Я поняла – Степка будет слабеть всё больше и больше в этой борьбе, а воротник с желтым бантиком – укрепляться и властвовать.
– Ужас и рок шествовали по свету во все века, – сказала я. Мистер По, как всегда, оказался прав.
Я села на стул и горько вздохнула.
– Неужели всё кончено? – спросила я себя. – Ах, что поделаешь. Таков он и есть, кошмар российской действительности.
В открытое окно доносился тоненький голосок единственной на весь квартал бабы-прачки:
– Во вчерашнем лесу-у.
Летуну-у отдалась…
И от этого на душе было еще печальнее.
Максим Горький. Колокол ничтожных
(Автор: Николай Калиниченко)
Пешков Алексей Максимович (1868–1934). Родился в Нижнем Новгороде в семье управляющего Астраханским Пароходством Максима Савватьевича Пешкова. В тринадцать лет устроился дек-юнгой на нефтеналивную шхуну «Зороастр», где дослужился до матроса первой статьи. После чего некоторое время работал на прогулочном дирижабле «Цесаревна Ольга» в том же звании. В 1884 году поступил в Казанский университет на медицинский факультет. По окончании вуза вернулся в речной флот в должности судового врача. Благодаря связям отца, ставшего к тому времени совладельцем пароходной компании Колчина, а также заслугам в борьбе с речным пиратством, был жалован званием мичмана и переведен на первый волжский атомоход «Пересвет».
Алексей Максимович всерьез увлекался биологией, вел довольно оживленную переписку с ведущими учеными в Санкт-Петербурге и Москве. Эти письма, к несчастью, не сохранились. Однако лауреат Нобелевской премии, доктор наук профессор Преображенский не раз упоминал «бойкого волжанина» и хвалил его за исследование, посвященное изменению формы плавников Silurus glanis (сома обыкновенного), спровоцированному образованием русловых водохранилищ на Большой Волге.
Предложенная вниманию читателя рукопись найдена на борту покинутого транспортного модуля на орбите Венеры. Часть текста была серьезно повреждена и восстановлению не подлежит.
Слияние двух рек. Лоб высокого холма. Крепость. В небе над башнями облака. Невозможно прекрасные, белые и сдобные, точно калачи. Я бегу вниз, к реке. Мимо палисадов, мимо псов и кур, кустов сирени и будки городового. Я спешу, но на моем пути, прямо посреди улицы, лежит мертвая лошадь. Не выдержала груза и пала. Остановилось большое сердце. Купец не поспевает с товаром на баржу. Ходит вокруг, матерится и вдруг с размаху бьет ногой остывающий лошадиный бок. Бьет колокол…
Откуда взялась эта давняя картина? Зачем всколыхнулся в памяти после стольких лет вольный речной разлив?
* * *
Мы стояли на скальном уступе. За спиной постепенно теряли форму дорожные купели. Приемная площадка безмолвно впитывала отработку. Где-то над нами, в блеклой желтизне чужих небес истаивала невидимая струна надзвездного тракта [6].
Впереди, насколько хватало глаз, раскинулась марсианская равнина. Черные линии каналов, темно-зеленые полосы бедной растительности. И дальше везде: от подножия квантовой лестницы до туманной громады неведомого горного массива на горизонте – царство пыли и камня.
[Под нами – Равнина ветров. Впереди на северо-востоке вулкан Олимп. Лагерь экспедиции АН на два часа, в десяти километрах от площадки транспортера] – это Вахлак, уловив в моих выделениях невысказанный вопрос, снабдил напарника полезной информацией. Помесь йоркширского терьера и кавказской овчарки, мой компаньон возводит свою родословную к первым космопсам. Сейчас на орбите Земли вырос целый собачий город, и никто не смеется, представив рядом могучего поводыря отар и юркого смелого песика, способного атаковать лисицу в ее собственной норе. Невесомость скрадывает разницу в комплекции. Вахлак взял лучшее от обеих пород, а после стимуляции гипофиза по методу Преображенского – Моро стал сверхсобакой-эскортером, незаменимым помощником путешественника.
В прошлой жизни у меня собаки не было. Слишком хлопотное дело. Как-то гостил у Антона Чехова, ходил с ним на охоту. Видел, как он со своими борзыми общается. Тома и Лама – ласковые суки – льнули к рукам хозяина, точно выпрашивали родительской ласки. Такая между ними была любовь, такая привязанность, что я невольно ощутил себя лишним.
У меня две памяти. Так уж случилось. Когда я очнулся в Московском Институте Мозга и начал собирать воедино то, что некогда составляло мою личность, эта вторая явь вонзилась в душу, точно стрела разбойника Робина Гуда, и расщепила мой мир пополам.
Я окончил свои дни первым помощником капитана на прогулочном экоботе «Пересвет» верхневолжского атомоходства. Всю жизнь питал слабость к естественным дисциплинам, в особенности биологии, и потому завещал свое тело науке. Жил одиноко, детей не имел и скончался на работе в результате спазма сердечной мышцы. Через четверть века эмигрант из Франции, блестящий ученый Артур Доуэль воссоздал мое тело и разбудил сохраненный мозг от посмертного сна [7].
Эти воспоминания и по сей день живы во мне. Волжская гладь в ажурных кокошниках мостов, резвый бег изящных лодок и степенная поступь больших кораблей. Золотые линии пляжей и беспечные купальщики в полосатых костюмах. Апельсиновый сироп вечернего неба рассекает одинокий дирижабль. Лучи заходящего солнца касаются натянутых боков баллона, гладят гондолу и вдруг вспыхивают невиданным габаритным огнем на золоченом гербе. Мгновение, и в ответном салюте полыхают маковки городских церквей.
Помнится, тогда в моде были «дедалы» – аппараты искусственных крыльев. Молодые люди взбирались на быки Канавинского моста и бросались вниз, точно стаи золотистых ангелов. Дамы в пышных шляпах в притворном ужасе прикрывали рот вышитыми перчатками. Водители электромобилей весело давили клаксон. Задорно матерились извозчики всех мастей. В пряном дыму балканских папирос, в пузырьках шампанского и вечерних фейерверках, стремящихся перещеголять ровный свет Вифлеемской звезды, уходила от нас старая эпоха. Единовластие сменилось избирательным собранием и позднее социалистическим советом. Не безоблачно, но почти бескровно. Россия едва замешкалась на стыке веков и вновь устремилась вперед, следуя своей необычной судьбе. Это было… но было и другое. В часы позорного малодушия я стараюсь не заглядывать в темную комнату, полную смутных и страшных образов: ранняя смерть родителей, нищета, лишения и невзгоды босяцкой жизни. Горящий Петербург, окровавленная Москва, братоубийство, злоба. Угрюмый непокой народной стихии. И всё же в этом скольжении по краю бездны гостило в моей душе небывалое яркое счастье. Ни с чем не сравнимое удовольствие творчества, жизнь, полная странствий, и еще он… мой сын, мой золотой мальчик. Максим, Максимушка…