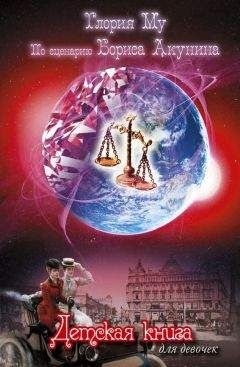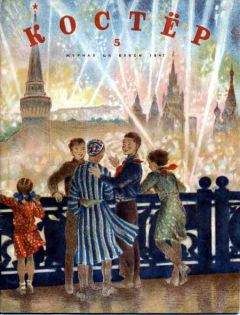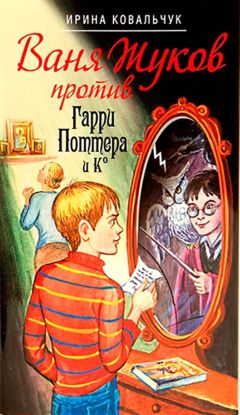Но от всей этой свистопляски она стала ужасно жалеть бедного доктора и сама всячески старалась ему услужить — принести чаю в кабинет, или найти пенсне, сиротливо забытое на столике у кресла, или рассмешить чем-нибудь.
Только во время обеда Василию Савельевичу удавалось по-настоящему отдохнуть и побыть с домашними.
Но это вовсе не значит, что обед проходил мирно. Отнюдь.
Боевые действия начинались от самого порога.
Заслышав звонок доктора (три резких нетерпеливых трели), Аннушка коршуном летела в прихожую.
— Куда? Куда? Аспид вы бессовестный! Пальто снимайте и в ванную! — голосила она и, растопырив руки, гнала доктора в сторону ванной.
— Что вы кудахчете, Анна Ивановна? Вы же девица, а не курица. Дайте пройти, — с нарочитой досадой бросал Василий Савельевич.
— Я вам дам! Я вам пройду! Опять заразы в дом натащите! Мыться идите, я уже и рубашку чистую приготовила, и мыло карболовое.
— Может, мне еще пиджак известью засыпать и шляпу съесть? Да поймите вы, несносный человек, я только от генерала Карбышева, у его жены мигрень, а не бубонная чума!
— Как же-с. Знаю я ваших генералов. Генерал ромейковский и губернатор бунинский. Снова по норам хитровским, помойным таскались, а оттуда известно какие подарки — дифтерит да рожа.
— Ну о чем вы? Какой дифтерит?
— Запамятовали? А кто в том году скарлатину Поле притащил? Оно понятно, вам-то что — зараза к заразе не пристает, так жену с дитем пожалели бы! Аспид вы, аспид бессовестный и есть…
— Ну, пошла барыня плясать… — махнув рукой, Василий Савельевич ретировался в ванную.
Победа оставалась за Аннушкой, однако это был всего лишь первый раунд.
За столом скандал разгорался с новой силой.
Аннушка питала страсть к блюдам французской кухни. Доктор этой страсти не разделял.
Аннушка предлагала доктору отправляться в трактир с его разлюбезными босяками, где и хлебать щи лаптем. А здесь — приличный дом.
Доктор нервно напоминал Аннушке, что это его дом, и он желает получить вкусную и здоровую пищу, а не склизкие белые сосульки (речь о спарже).
Аннушка не теряла надежды, что доктор когда-нибудь образумится — начнет вести себя, как должно образованному человеку, водиться с приличными господами и питаться изысканной, утонченной пищей.
Доктор уверял, что ее надежды беспочвенны, и требовал каши, рыжиков и покоя в собственном доме.
Кончалось по-разному, но совсем не страшно. Даже пугливая Геля понимала, что это не битва, а спарринг, что доктор с кухаркой ругаются не от злости, а для удовольствия.
Наверное, Василий Савельевич видит слишком много чужого горя, и перепалки с Аннушкой — что-то вроде комических интермедий в трагической пьесе. Ну как сцены с шутами-могильщиками в «Гамлете».
После обеда доктор бывало что и дремал час-полтора, но чаще все же раздавался звонок — телефонный или с парадного, — и Василий Савельевич, подхватив саквояж, мчался кого-нибудь спасать.
Дом вздыхал с облегчением.
Нет, Василия Савельевича дома очень любили, более того, все там было устроено так, чтобы он мог спокойно поработать (а Василий Савельевич еще умудрялся готовить доклады для врачебного сообщества и писать статьи в медицинские журналы) или спокойно отдохнуть.
Но на самом деле дом был женским царством и жил вовсе не в резковатом, надсадном ритме телефонных звонков и безотлагательных вызовов, а в своем собственном — нежном, приветливом, ровном. И стоило парадной двери захлопнуться за беспокойным Василием Савельевичем, как дом возвращался к своему размеренному ритму.
Хрустальная, убаюкивающая безмятежность удивляла, потому что дом не был ни ленивым, ни сонным — Аннушка и Аглая Тихоновна ни минуты не сидели без дела, и если бы на Алтын Фархатовну, к примеру, свалилось столько же домашних хлопот, она, наверное, застрелилась бы из пылесоса.
В доме Рындиных никакого пылесоса не было. Пыль с мебели и безделушек смахивали смешной метелочкой из перьев, ковры чистили щетками, а пол мыли шваброй. Раз в неделю приходил мальчишка-полотер, насупленный и дикий, как лесной барсук, и натирал пол мастикой, чтоб блестел.
В доме были черный ход и парадный. Через парадный прибывала «чистая публика», а через черный — как раз доставляли покупки, дрова, лед, приходили дворник, пожарный, почтальон, прачка, полотер, точильщик, лудильщик, слесарь, трубочист, соседские кухарки, горничные и няни. Геля прикинула — если бы дома, в ее Москве, тоже было так, то через парадный ход приходили всякие гости, например, ее одноклассники, а вот пиццу приносили бы с черного.
После уборки Аннушка отправлялась в магазин, вернее, по большей части на рынок или в какую-нибудь лавку. Прежде всего, за свежими продуктами — нельзя было съездить, как привыкла Геля, в гигантский супермаркет и закупиться замороженными полуфабрикатами и разной другой чепухой на всю неделю — здешний холодильник, пусть и прехорошенький, никак для этого не годился. Зато служба доставки работала прекрасно, покупки не нужно было тащить домой, а только выбрать — привозили их уже приказчики или мальчишки.
Прапрабабушка же «занималась счетами» — записывала в аккуратную коленкоровую тетрадь всякие расходы, прошлые и предстоящие: сколько денег лавочнику, да прачке, да Василию Савельевичу шляпу новую, да дюжину воротничков и кружева — обновить Полины платья… Или шила — тогда Аннушка садилась рядом, на пуфике, и читала вслух из какой-нибудь книжки. Аглая Тихоновна тоже часто читала — Аннушке, пока та гладила белье, Василию Савельевичу — чтобы приспать, и Геле — просто так; и это домашнее чтение неожиданно царапнуло девочку по сердцу.
Когда они с Эраськой были маленькими, папа вот так же читал им на ночь или придумывал сказки, и для Гели это было самое любимое время — папин голос словно окутывал ее, а потом уносил в сон. Во сне сказка продолжалась, обрастала нелепыми подробностями, и утром Геля бежала к родителям, чтобы, торопясь и захлебываясь словами от нетерпения, рассказать им «как все кончилось на самом деле, а не в книжке».
На самом деле все кончилось просто — они с Эраськой выросли, научились читать, засели за книжки и ноутбуки, и папа им больше ничего не рассказывает. Да и не слушает, если честно, — наверное, теперь ему с ними скучно.
У каждого своя жизнь — у папы, у мамы, у Эраськи и у нее, Гели.
А вот у Рындиных почему-то общая, пусть всякий и занят своими делами. Геля даже немножко им завидовала (ну ладно — ужасно завидовала), хотя по настоящим папе с мамой все равно скучала.
Дома пришлось безвылазно проторчать несколько дней. Когда Геля совсем уж затосковала (без интернета и телека даже дом-музей Рындиных в конце концов прискучил), произошло вот что.
То есть сперва, наоборот, совсем ничего не происходило.
Был поздний вечер. Столовую окутывал мягкий полумрак, горела лишь настольная лампа, у которой Аглая Тихоновна, как обычно, что-то шила. Василий Савельевич, как обычно, запаздывал со службы. Аннушка, как обычно, ворчала, что ужин перестоит.
А Геля — Геля, свернувшись калачиком в любимом кресле Василия Савельевича, дулась.
Вот тебе и путешествия во времени, — сердито думала она, — вот тебе и опасности с приключениями.
Залипла тут, как доисторическая букашка в янтаре! Да ей так скучно в жизни никогда не было, даже на уроке географии!
Вот сегодня, например, Аннушка с Аглаей Тихоновной устроили дома настоящий переполох — выставляли двойные рамы, мыли окна, укладывали зимнюю одежду в сундуки, а ей, Геле, не позволили и пальцем пошевелить — как же, доктор запретил переутомляться! Не то чтобы она особенно любила прибираться, но хоть какое-то развлечение.
С другой стороны, — девочка вздохнула, — хорошо, что прапрадедушка запретил ей все на свете.
Выдавать себя за другого чрезвычайно трудно, пусть и позаимствовав его внешность. Столько мелочей, которых ни за что не предусмотришь, даже если бы они с Феей готовились к «заброске диверсанта» не пару часов, а пару лет.
И как тут быть? Самое время посоветоваться с Люсиндой, но сколько Геля ни пялилась на танцующую пастушку, связи все не было, и сны снились самые пустяковые — чаще всего про зеркало в ореховой раме.
То она тщетно искала свое отражение, но зеркало было темным и пустым, как ночной пруд; а то еще вместо Гели или на худой конец Поли Рындиной в зеркале вдруг являлась Динка Лебедева, одетая пастушкой Ватто, с немыслимой напудренной куафюрой, и танцевала, танцевала…
Было, правда, странное чувство, будто за ней кто-то наблюдает, особенно во сне.
Но «Августин» не звучал, и Фея не появлялась.