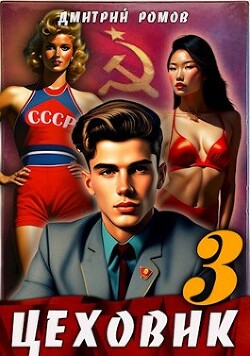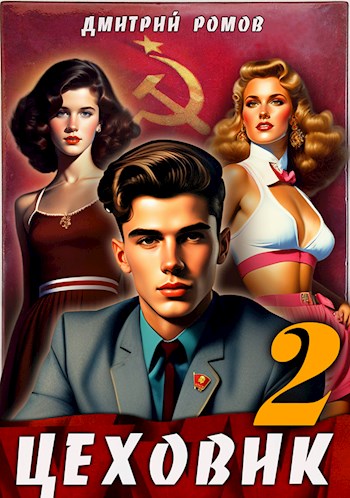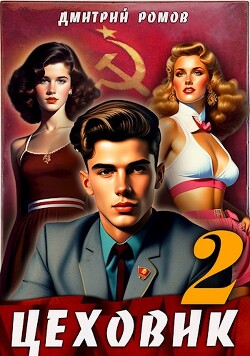На ней тот самый коротенький домашний халатик, за который она уже получала от отца.
— Послушай, присядь, — она показывает на диван. — Вот сюда. Садись.
Я сажусь и она опускается рядом. Чуть наклоняется и берёт мою руку. Я улавливаю её запах, тонкий и свежий, и… волнующий. Духи. Но совсем немного и… Они смешиваются с ароматом юности и бьют в голову… Что ж ты творишь, Рыбкина!
Она смущена и взволнована, и от этого по спине мурашки бегут. Она собирается с духом, хочет сказать что-то такое, очень важное и очень личное…
— Егор… — голос немного дрожит. — Я тебе совсем не нравлюсь?
Блин…
— Наташ, ты чего… Как ты можешь не нравиться? Ты такая замечательная, такая добрая, такая красивая, такая нежная. Ты очень мне нравишься…
— Нет, — качает она головой. — Неправда. Тебе та девушка нравится, а не я.
Не понял…
— Какая девушка, Наташ? Бондаренко что ли?
Юля тоже симпатичная, да, но она уж совсем малышка.
— Нет, та рыжая, с которой я тебя видела…
Таня…
— Натусь, Таня просто хорошая знакомая и всё. Она же намного старше меня.
— Я слышала, некоторым девушкам нравятся юные и неопытные мальчики…
Где же ты такое слышала, милая? В журнале «Работница» такое не пишут.
— Нет, ты ошибаешься. Мы просто приятели и не виделись уже довольно давно. Да вот тогда, наверное, и был последний раз.
— Ты меня избегаешь, — грустно опускает она голову. — Ведь ты же не можешь не замечать, что я… Что ты… Что ты мне нравишься…
Замечаю, ага. Я только сейчас, кстати, замечаю, что она в новых колготках, в моём подарке. И да, ножки действительно, как конфетки. Вид обтянутых тёмным капроном острых коленок… В общем у меня внутри что-то сжимается. Не знаю, что там у меня имеется, но сжимается чувствительно. Прямо больно становится. Дожились…
— Наташенька, милая, ты мне тоже очень нравишься, правда. Знаешь, за последние два месяца, ты будто частью меня стала…
— Только за последние два?
— Ну да… Когда кирпичом по голо…
— Тебе всё шуточки, — перебивает она. — А я… я… тебя… люблю…
Ну бляха муха! Да что же это делается! За что меня любить-то?! Я и там жене изменял, и здесь кучу баб уже перетрахал. Если быть точным, троих пока… Вообще, я дед, сто лет в обед, по сравнению с тобой. Да, ты мне нравишься, и я тоже тебя люблю, по-своему. И я бы прямо сейчас сгрёб тебя в охапку и показал, с чего начинается взрослая жизнь. Но я ведь не последняя сволочь! Сволочь, да, но не подонок. И чего мне теперь делать? Чего делать-то?
— Наташка, — тихонько говорю я, и, приобняв её за плечо, прижимаю к себе.
Целомудренно прижимаю, по-братски, по-отечески. У меня дочь старше неё, если что.
— Я тоже тебя люблю, — шепчу я в её густые каштановые волосы, пахнущие, увы не ребёнком.
Они пахнут желанием и юной, но уже оформившейся красотой.
— Очень сильно люблю, — продолжаю я. — Но ты пойми…
Она не дослушав вырывается из моих объятий и, вскочив, становится передо мной.
— Любишь, — говорит она вздёрнув подбородок. — Докажи!
ЁКЛМН, как пишут на кассовых аппаратах! Это плохие парни требуют от недающих подружек доказательств любви. Не наоборот!
— Ты вроде хотел на примерке побывать? Ну вот, смотри. Как тебе колготки?
Она дёргает за поясок халата и он развязывается, а сам халат, этот маленький клочок шёлка, или из чего он там сделан, соскальзывает с худых девичьих плеч и падает к её стройным ногам.
У меня челюсть отваливается. Да, ножки, как конфетки. Она вся как конфетка. Плечики, шейка, грудка, широкие белые трусы под колготками, закрывающие весь живот. На ней ничего нет, кроме этих трусов и колготок. Мама дорогая! Я паникую! Кто бы мне сказал, что я, как ботан и задрот буду хлопать глазами, глядя на голую девчонку, стоящую в метре от меня.
— Ты же понимаешь, что для меня это значит, правда? — шепчет она. — Ведь я девушка. Это не просто так и теперь…
И в этот самый момент хлопает входная дверь. Твою мать! Мы оба оборачиваемся к прихожей, откуда доносится недовольное:
— Я тебе сколько раз говорил не запираться! Я же всё равно…
Упс… Дядя Гена съел пургена…
Наверное, мы с ним сейчас очень похожи. У обоих отвисшие челюсти и глаза по полтиннику. Впрочем, это очень быстро меняется. Его глаза в один момент из по-детски обескураженных превращаются в не по-детски взбешённые. Они как фонари идола, как зеницы Молоха, наливаются кровью. Хоть бы его удар не хватил, так-то он, вообще-то, нормальный мужик.
— Ах ты козёл! — хрипит он.
Наташка подхватывает халатик и уносится в спальню, хлопая дверью, а разъярённый отец с неотвратимостью каменного гостя начинает медленное движение в мою сторону.
Погиб смертью храбрых, представляю я надпись на своём надгробном камне.
— Дядя Гена, я… — лепечу я.
— Паскудник!
— Да я…
— Убью, с-с-с… с-с-ука! Задавлю!
Он бросается на меня, но я подныриваю под руку и делаю кувырок.
— Ах ты, мразь! — хрипит разгневанный отец. — Ах ты, тварь. Я тебе сейчас бубенчики отчекрыжу. Пи***ныш мелкий! Кабздец тебе, козлище!
Развернувшись, он снова пытается меня схватить, но я опять уворачиваюсь и, когда он резко разворачивается, запутавшись в собственных ногах, слегка его толкаю. Он падает, а я, воспользовавшись моментом, вылетаю в прихожую.
Ну, не буду же я лупить отца влюблённой в меня девочки. Стыд какой, честное слово! Я хватаю куртку с ботинками и вырываюсь в подъезд. Блин! Блин-блин-блин! Почему всё не может быть просто? Я не против скучной и безынтересной жизни. Лишь бы без таких вот потрясений.
ЁКЛМН.
Уфф. Я наклоняюсь, зачерпываю в пригоршню снег из сугроба и растираю им лицо. Не помогает. Всё равно, перед глазами стоит Наташка. Теперь ещё её надо будет успокаивать. Ладно, надо заняться делами. Работа превыше всего. Иду в бар. Тоже разговорчик тот ещё будет.
— Здравствуйте, Альберт Эдуардович, — приветствую я Алика.
Он молча кивает и внимательно смотрит.
— Теперь я тут у вас буду ставки принимать, если вы не против.
Он снова кивает и, помолчав, добавляет:
— Теперь будет пятнадцать процентов.
— Можно мне кофе, пожалуйста?
Алик молча отворачивается и делает мне кофе. Надо сказать, кофе неплохой. Мало где… да что там, подумав, могу сказать, лучший в городе.
Делаю глоток.
— Пятнадцать не выйдет, — пожимаю я плечами.
— Тогда, — спокойно отвечает он, — не будешь здесь работать.
— При всём уважении, — говорю я, как в американских фильмах про мафию, — но от меня это не зависит. Боюсь, от вас тоже не вполне. Хотя рад буду ошибиться.
— Поясни, — холодно произносит он, и я чувствую, что он крайне недоволен направлением разговора.
— Я не владелец тотализатора. Новый владелец Цвет. Я лишь оператор, если так можно выразиться. И предлагаю вам десять процентов, но не от выручки, а от прибыли конторы.
Он замирает. Грабёж, конечно. Он привык уже десять про с выручки хапать. Но это ни в какие ворота, если честно. Он получает клиентуру, которая тут бочками выпивает его заморские пойло, а он ещё и на выигрыш хочет лапу наложить. И накладывает, собственно.
— Я вас глубоко уважаю, Альберт Эдуардович, но в убыток работать не смогу. У меня ресурсов для этого нет. Тем более, до Олимпиады, думаю, будет ощутимый спад среди игроков. Впрочем, многие из них уже привыкли приходить именно сюда, в ваш бар даже когда не играют. Выпить, поболтать в дружелюбной буржуазной обстановке. Атмосфера бара — ваша заслуга и отсутствие Кахи с Рыжим пойдёт всему на пользу. Согласитесь, они и из-за ширмы умудрялись всё портить. Но я портить не буду. Посажу тут у вас красотку, ту что Рыжему палец откусила, она с репутацией девушка, ей палец в рот не клади. Мужики будут толпами виться, сами понимаете. Так что ваша выручка пойдёт несомненно в гору. Но не то что повышать, а даже оставлять прежней, вашу комиссию никак не получится.