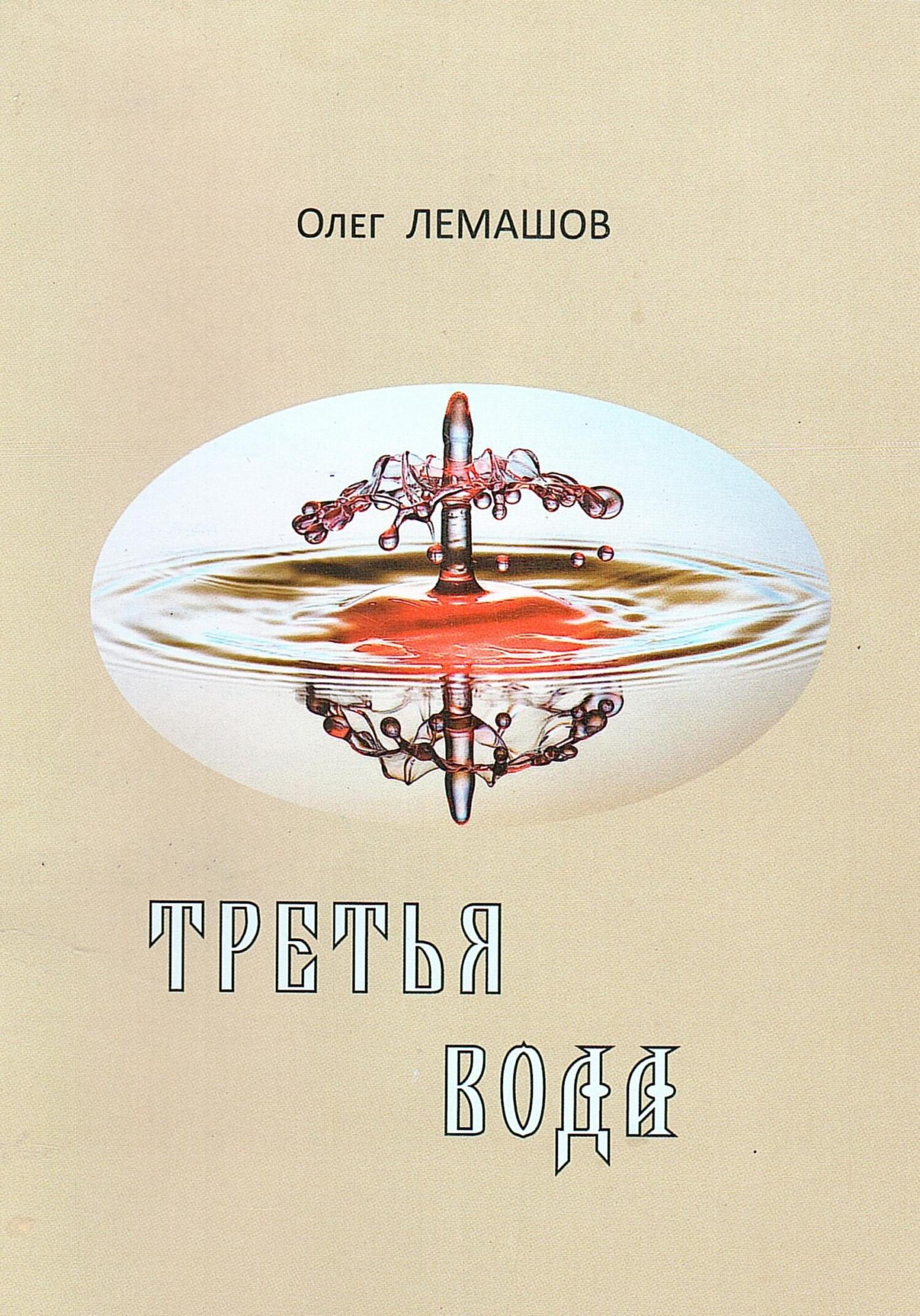моей душе есть также любопытство. Будто я прикоснулся к чему-то неимоверно древнему, мрачной тайне, главной загадке бытия. Как в детстве, когда тебя что-то пугает, но и одновременно манит необъяснимой тайной, сокрытой в себе.
Однажды совсем мальчишкой я испытывал подобное; далеко в деревне умер дедушка Коля и со всех концов страны потянулись на похороны многочисленные родственники. Приехали и мы с мамой, возможно и отец приехал с нами, но его я совершенно не помню там. Зато помню, что мы с сестрой, нам было по шесть лет, оказались одни дома с покойником. Тогда хоронили не как нынче, покойника обязательно оставляли в доме на ночь и ближайшие родственники сидели с ним до утра. Зачем это делается, я и сейчас не знаю, а тогда, ребятнёй, мы и подавно не вдавались во все эти тонкости.
Так получилось, что женщины что-то готовили в летней кухне для поминального стола, этого я даже не помню, а скорее предполагаю, а мужчины, да мало ли куда они делись, там кругом была суета. Это не важно, важно то, что мы остались с сестрой одни, в доме в одной из комнат которого на табуретках стоял обитый красным бархатом гроб и в нём лежал деда Коля. Аня предложила пойти и посмотреть на него, мне было страшно, но я не мог этого показать девчонке и мы пошли.
Открыв дверь, мы смотрели на него с порога и не решались войти в комнату. Мы любили деда Колю, он всегда нас баловал и угощал конфетами, но сейчас всё изменилось.
Нам было видно бледный профиль его лица и скрещенные на груди руки. В его облике что-то поменялось, мы никак не могли понять что именно, но чувствовали, что что-то очень важное. Ничего не смыслившие в жизни и тем более в смерти, мы понимали всё же, что здесь проходит граница, между обычным миром и миром, сокрытым от всех, у кого бьётся сердце.
Вот мы, живые, стоим на пороге комнаты, а вот он — уже не принадлежавший нашему миру и оттого страшный, не смотря на то, что обликом это всё ещё наш дед. И вся комната, с задёрнутыми плотно шторами и занавешенным зеркалом, погружённая в торжественный полумрак, благодаря присутствию гроба и покойника тоже не принадлежала нашему миру. Мы остро чувствовали это и потому стояли на пороге и не решались войти, переступить эту границу.
Первой не выдержала Аня, поёжившись, она потянула меня за рукав: «Пойдём отсюда. Хватит».
Мне было страшно не меньше чем ей, но я лишь презрительно скривил губы и бросил: «Иди, трусиха». Она отпустила мою руку и убежала, я слышал, как она выскочила на улицу и с облегчением выдохнула. А я не всё уходил, я смотрел на лицо деда и мне казалось, что он вот-вот зашевелится, откроет глаза и протянет ко мне свои руки и тогда моё сердце разорвется на куски, и я даже не смогу спастись бегством, потому что от такого ужаса невозможно убежать, ты просто умрёшь на месте вот и всё. Я чувствовал страх и волнение от близости к готовой порваться в любой момент тонкой грани разумного привычного мира, но вместе с тем и любопытство.
Я думаю, все дети испытывают любопытство к тому, что пугает. Но у большинства это любопытство не может пересилить страх, и они сбегают, как сбежала моя сестра. Со мной же с самого детства что-то было не так. Мне почему-то нужно было знать то, что сокрыто и что я даже не мог сформулировать чётко. И потому я всегда шел напролом там, где другие отступали.
Так было и в тот раз, мне было мало того, что я остался один в доме с покойником, мало почувствовать грань между мирами, я должен был прикоснуться к ней и даже переступить черту. И я решил дотронуться до руки деда.
Я стал медленно приближаться к покойнику, не сводя с него глаз, готовый сорваться при малейших признаках движения. Это был самый долгий путь в моей жизни, четыре или пять шагов навстречу ужасу. А потом я прикоснулся к руке мертвеца, шестилетний ребёнок не подозревавший, что в этот момент не только я заглядываю за грань, но и с той стороны тоже кто-то обратил внимание на меня. Думаю именно этот случай, послужил предтечей зимней ночи в степи, заложил во мне необъяснимую тягу ко всему, что скрывается под покровом ночи.
Это всё я понял потом, а тогда я повернулся к деду спиной и побежал со всех ног, так как не сомневался, что за моей спиной, стоило только мне отвернуться, он тут же вывалился из гроба и медленно полетел за мной, скаля огромные клыки. И хотя убегая я задыхался от ужаса, я испытывал не только страх, но и смесь чувств из гордости и восторга, оттого что не отступил, смог прикоснуться к неизведанному, к таинственному!
Вот и в ту морозную ночь, глядя на неподвижное лицо странной девушки стоящей в свирепую метель в одном лёгоньком платьишке возле нашей промерзающей машины, я осознал, что хочу её услышать, хочу понять, кто она такая и почему стоит тут ночью в безжизненной заснеженной пустыне.
И я услышал её! Тонкий вплетающийся в порывы ветра голос звал меня! Это были не слова, нет! Её чистый как морозная свежесть голос выводил мелодию, рождая образы в моей голове. Она пела о том, как красив закат в звенящий мороз, и как привольно и весело летать по ночным просторам, обгоняя ветра и пугая волков, отчего те жалуются на неё Луне.
«Иди к нам, — пела она. — Луна любит всех, мы все её дети: и ночные демоны, и волки, и даже порождения, которым нет названия в человеческом языке. Ведь это так просто, ты всё равно умрёшь сегодня в этой железной коробке. Ты больше не увидишь рассвет. Так зачем умирать, зачем пополнять собой мир теней, их итак много! Лучше присоединяйся ко мне и нам будет так хорошо! Мы станем стремительнее ветра и сильнее всех медведей, что до весны забылись тревожным сном в своей берлоге. Мы сможем посетить места, красота которых затмит всё, что ты видел до этого! Мы будем бесконечно играть, и резвиться на бескрайних просторах всех миров, где есть зима, а злые вьюги будут послушными щенятами ласкаться у наших ног.
Пройдут столетия и целые эпохи, поколения за поколением будут рождаться и исчезать в небытие, но только мы останемся вечно молоды и красивы,