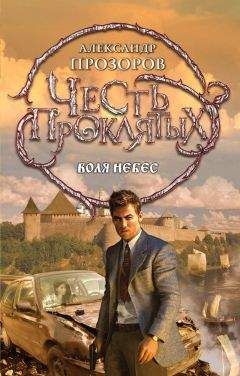– Мария Темрюковна? Умерла? – не поверил своим ушам Басарга. – Да она же молоденькая совсем! По весне веселая была, кровь с молоком! Силой так и брызгала!
– Простудилась в Вологде три месяца тому. В Москву уже в беспамятстве везли. А здесь душу Господу и отдала, дитятко наше невинное… Четверти века не прожила, сгинула. – Отпустив подьячего, княжна потянулась к кубку, выпила.
– Три месяца назад? Как можно простудиться насмерть в середине лета?! – не понял боярин.
– Судьба… – тяжко вздохнула Мирослава. – А все ты, окаянный! «Броню надень, в броне не достанет»! Ой… – Она испуганно зажала ладошкой рот.
– Да вы ума, видно, лишились! – охнул подьячий.
– Да разве с ней поспоришь?! Горяча была, что огонь! Царица! Насилу морду зверю замотать уговорили, дабы клыками не порвал. Так ведь и не порвал, и панцирь выдержал. Да токмо кости девичьи не таковые, видать, как твои, толстые… – Женщина вздохнула и снова взялась за вино. – Ты токмо Иоанну не сболтни. Он ведь ныне злой. Всю свиту медведям тем же скормит и вину прояснять не станет. Царица, как после схватки слегла, сама повелела на простуду ссылаться. Тоже гнева царского опасалась. Думала отлежаться, а ей все хуже и хуже… Опосля и вовсе в беспамятство впала.
Мирослава налила себе еще вина.
– Иоанн злой? – выхватил из ее слов самую главную оговорку Басарга.
– Прикипел он к жене-то. Токмо-токмо от тоски по Анастасии отходить начал. И тут на – молодуха в гроб слегла в одночасье! – Княжна опрокинула в рот очередной кубок. – Кто же тут не огневается? Брата свого, князя Владимира Старицкого, коего из Новгорода от заговорщиков сам же подальше вывел, во гневе пред очи велел доставить, да все, что о заговоре известно по сыску и доносам стало, ему в глаза и объявил. Тот спужался, да тем же вечером с супругою вместе и отравился. То-то Иоанну еще одна радость, вслед за женой брата оплакивать!
– Так ты ныне не при дворе? – с запозданием сообразил Басарга.
– Кому нужна царицына кравчая, коли сама царица в нетях? – горько выдохнула Мирослава. – Свободна я ныне от службы, любый мой… Вот, тебя жду. Поехали в поместье, Басарга? Давай поедем? Давай съездим, милый? Я деточек своих, кровиночек родных, уж год как не видела. Истосковалась…
Княжна устало опустилась за стол, уронила голову на сложенные руки и заплакала. Боярин подошел к ней, сел рядом, обнял за плечи:
– Конечно, поедем, любая моя. Вот токмо государю отчитаюсь о походе своем глупом, тогда и поедем.
Мирослава не ответила. Судя по ровному дыханию, она спала.
Пару дней Басарга провел дома, отдыхая после долгого пути и наслаждаясь ничем не ограниченной близостью со своей любимой, однако на третий день чувство долга взяло верх, и он отправился в Кремль.
В главной крепости Руси было непривычно много стрельцов. Караулы у ворот насчитывали не десяток ратников, а полсотни, еще несколько отрядов, поблескивая бердышами, скучали возле приказных изб, приглядывая за порядком. Если раньше службу несли чуть ли не одни бояре, то теперь их стало явно в меньшинстве.
Впрочем, самого царя по-прежнему охраняли опричники – тоже несшие службу в большем, нежели обычно, числе. Подьячего Леонтьева они знали, равно как и благоволение к нему государя, а потому без лишних задержек провели гостя в глубину дворца, где в хорошо натопленной светелке Иоанн, восседая на троне, совещался с доверенными боярами. Наметанный взгляд Басарги сразу заметил, что меж князем Воротынским и князем Вяземским, малорослым боярином Скуратовым, самодовольным боярином Годуновым и другими опричниками нет бояр Басмановых, ранее от царя почти неотлучных. Может статься, конечно, по делам отосланы. Но подьячий подумал, что и отец, и сын уже под подозрением, и к трону более не допущены…
– Дозволь поведать о службе своей на Волге, государь, – поклонился с порога боярин Леонтьев.
– Оставь, – легким взмахом руки ответил ему Иоанн. Несмотря на жару, правитель был в шубе, словно бы мерз, в то время как остальные стояли в легких ферязях, а Малюта и вовсе в зеленой атласной рубахе. – Ведомо мне все, князь Серебряный отписал. Дело вышло славным и победным. Султан османский ужо послов прислал. Сказывает, знак божий есть в том, что его армии завоевать Астрахань не получилось. Готов он, дабы небеса более не гневить, все Поволжье Нижнее за мною на веки вечные признать. И ты, мыслю, одним из сих знаков божиих оказался.
– Благодарю, государь, – опять поклонился подьячий. – Дозволь, государь, ныне на поместье свое отъехать, отдохнуть после похода.
– Нет, не дозволяю. – Иоанн приподнял руку, поманил его пальцем ближе. – Преданные люди ныне мне рядом, в Москве нужны.
Басарга подошел почти к самому трону, поклонился снова.
– Сокольничий князя Владимира Старицкого, князь Петр Волынский, с тревожными вестями к нам из Новгорода примчался. Там, сказывает, за минувший год преизрядно иноземцев скопилось. Литвины в большинстве своем. Иные лавки открывают, иные женятся, иные торг в окрестных местах затевают, иные так живут. Но мне сии гости не присягают, верными клятве Сигизмунду остаются. Новгородцев презирают, с боярами же тамошними якшаются близко. Знаешь ли ты о сем что-нибудь, мой верный слуга?
– Далек я от Новгорода, государь! – прямо в глаза царю посмотрел Басарга. – Побратим мой, боярин Зорин, там по делам ранее бывал, но уж год как носа туда более не кажет. Сказывал, недоброе там что-то творится, пакостное. Но о подробностях он не ведает и участие в сей мерзости принимать не желает. Съехал ныне от Москвы и Новгорода подальше, и все.
Иоанн многозначительно переглянулся с Малютой Скуратовым, откинул голову на высокую спинку кресла:
– Это верно, пакостное, – согласился он. – Замучили меня новгородцы жалобами. Пишут, не признают иноземцы заезжие веры нашей и обычаев. Оскорбляют их всячески, ссоры и драки затевают. Загнобить, как скот, обещают, когда к власти придут. И вроде бы обязаны безобразие сие местные бояре и посадники пресекать, но заместо защиты люду православному бояре сии иноземцев покрывают, покровительство оказывают. Князь же Волынский сказывает, бояре и вовсе Новгород отринуть от земель русских намерены, королю Сигизмунду клятву принесли и благословение архиепископа новгородского Пимена на то у них уже имеется.
– Коли уже клятву принесли, отчего бунта еще нет? – осторожно поинтересовался Басарга. – Почему за оружие не взялись и о выходе не заявляют?
– Дозволения нет, – криво усмехнулся царь. – Ныне великое посольство Польское и Литовское в Москву отправляется, о мире меня просить. Полагаю, не имея силы ратной, Сигизмунд Август намерен бунтом новгородским меня пугнуть, дабы условия мира удобные на сем выторговать. Пока посольство не приедет, смута не начнется. Сигизмунду в сей затее выгода прямая. Кровь будет литься токмо русская, ляхам же от сего никакого урона, веселье одно. России беда – им мир удобный.
– Тогда чего ждешь ты, государь? В зародыше надобно заговор порушить, пока не полыхнуло!
– Чтобы не полыхнуло, митрополит Филипп должен слово свое умиротворяющее сказать, от глупости сей людей православных предостеречь, Пимена-отступника осудить. А он, боярин, тебя одного средь прочих людей выделяет. Посему именно ты к нему с сей просьбой и поскачешь.
– Слушаю, государь! – с готовностью вскинулся подьячий.
– Не спеши! – остудил его Иоанн. – Прежде чем дело сие зачинать, надобно убедиться, что в спину никто не ударит, когда в Новгород поеду, и самых верных слуг вместе собрать. Самое мерзкое в изменах – так это то, что самый верный соратник, коему доверяешь, как себе, способен, ровно оборотень, в чужака перекинуться. В Москве сыск еще не закончился. Надобно людишек перебрать да проверить. Тебе верю, боярин. И друзья твои слугами верными завсегда себя показывали… Вестника им пошли. Пусть приезжают со всей поспешностью! Но зачем кличешь, не указывай. Здесь узнают.
Однако пошло все вовсе не так, как предполагали в Кремле, и не так, как задумывал король польский и литовский Сигизмунд Август…
* * *
В день святого Саввы, вскоре после полудня, в ворота Басаргина подворья громко забарабанили, а когда Тришка-Платошка отворил ворота, внутрь ворвались несколько опричников в тулупах и зипунах, побежали в дом, ринулись в нижнюю горницу, дыша холодом и роняя с воротников влажные капли.
– Подьячий, ты где?! – во весь голос заорал Григорий Скуратов, скидывая с головы треух. Бритая башка его, так же, как лицо, была бела, словно снег, отчего царский сыскарь походил на покойника.
– Здесь я, чего орешь? – поднялся боярин Леонтьев, как раз сидевший за столом с побратимами.
За минувший месяц Тимофей Заболоцкий и Илья Булданин успели и письмо его получить, и сами добраться, оставив княжну Шуйскую и боярина Зорина присматривать за детьми. «Смутьян» Софоний показаться в Москве не рискнул. Увидев ворвавшихся с оружием людей, служивые тут же обнажили сабли, но Малюта этого словно не заметил: