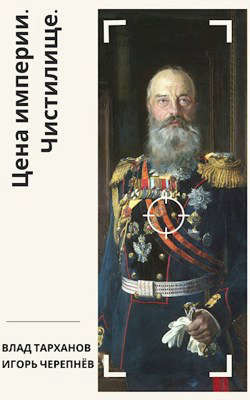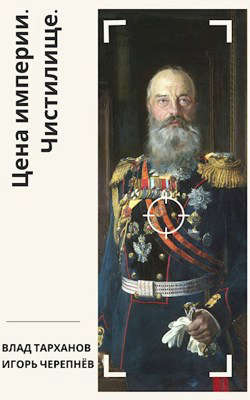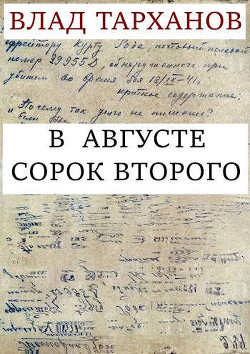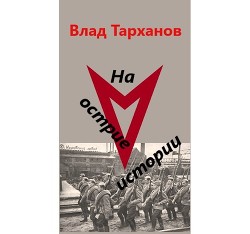Неприятный посетитель сделал паузу, убедившись, что его слова ложатся на возделанную почву. Господин издатель действительно относился к деньгам и прибыли своего детища с трепетом, достойным скупого рыцаря незабвенного Александра Сергеевича. С работниками он не был щедр и стремился сэкономить всюду, где была малейшая возможность. На святое дело борьбы с царским режимом средства выделял, но всякий раз многократно напоминал, что его издательство и так все время работает на нужды народного восстания, во что господа революционеры конечно же, не верили. Рыбка клюнула, пора подсекать!
— Мне не хочется выступать в амплуа Кассандры, но вам вынесен приговор и даже назначен приемник или наследник, а по совместительству и палач. Тем паче, что он весьма искушенный душегуб.
— И кто же он, — деланно безразлично спросил русский швейцарец, хотя это притворство вряд ли могло обмануть более или менее проницательного человека. Я его знаю?
— Знаете, Михаил Константинович, хорошо знаете. И опусы его читали, а может и печатали. Да и дискуссировали вы с ним изрядно. Имя Сергей Михайлович Кравчинский вам знакомо?
Мезенцев заметил, что, услышав это имя, на лице издателя кроме страха промелькнула и гримаса ненависти. Следовательно, семена упали на благодатную почву и теперь можно сделать Элпидину конкретное предложение.
— Михаил Константинович, позвольте напомнить вам вот этот постулат: «Amicus meus, inimicus inimici mei»[2]. Кравчинский — это преступник и убийца, нарушивший законы земные и божьи. Но кроме того, он верный слуга британцев, извечного врага государства российского. А посему давайте сделаем так: вы называете мне место, где в протяжении ближайших трёх дней может находится сей субъект. И если по истечении этого времени произойдут некие события, то можете более не опасться за свою жизнь и имущество, да и вопрос со швейцарским гражданством скорее всего будет решен. А кроме этого, даю вам слово офицера, что после этого ваши обязательства перед Генеральным штабом будут считаться исполненными. Впрочем, если вы захотите поделиться интересными сведениями, то они будут оплачены, естественно, золотом, и исключительно наличными, никаких банков и счетов.
— У меня есть такие сведения, но как я смогу объяснить товарищам появление довольно значительных средств у меня…
— А что, вы считаете, что найденные вами секреты будут того стоить?
— Уверен. Я умею считать деньги. И я знаю, что вам нужно в первую очередь. Просто так получилось, что это попало ко мне…
— А если к вам попадет еще и рукопись утерянного романа господина Чернышевского? Того самого, которого ему так и не дали восстановить?
— Как? Вы имеете в виду «Что делать?»
— На Руси есть дав главных вопроса: «Что делать?» и «Кто виноват?».
Издатель сразу же пришел в себя и стал похож на хищника, почуявшего запах добычи, казалось, что его хорошо ухоженные ногти превращаются в когти, а зубы — в клыки. Еще бы уши к морде прижать — и вылитый тигр перед прыжком.
— Как же так получилось? — вопрос как бросок кинжала. Но посетитель продолжал сохранять абсолютнейшее спокойствие и никуда ироничность не собирался убирать.
— Неужели вы считаете, что потеря господином Некрасовым этого романа была случайностью? Мы помогли его потерять. Слишком лояльный цензор расстался с местом[3], и мы постарались сделать всё, чтобы господину Чернышевскому было не до того, чтобы его восстановить.
— И как это будет выглядеть?
— Вы получите письмо от вора, укравшего рукопись и попавшего в тюрьму. Выйдя на свободы, он добрался до рукописи, прочитал ее, проникся идеями нигилизма… И предложил вам выкупить ее за каких-то двести рублей… золотом, конечно же…
В уме господина издателя окончательно прояснилось. Перспективы оказались слишком заманчивыми.
— Это даст вам еще больший вес в среде эмиграции, защитит от посягательств революционеров, а издание произведения господина Чернышевского как в вашем журнале, так и в книге…
Семена попали на благодатную почву, считавшийся утерянным роман г-на Чернышевского, из-за которого писатель впал в черную меланхолию и практически перестал творить — это был прорыв, тем более, что сам Элпидин был известен как убежденный поклонник творчества Николая Гавриловича[4].
Согласие было достигнуто и в итоге, высокие договаривающиеся стороны расстались взаимно удовлетворённые достигнутыми результатами. Правда для этого потребовалось ещё десять минут дебатов, дабы Михаил Константинович мог в полной мере потешить собственное самолюбие и одновременно, не огорчить здравый смысл и житейскую расчётливость. Мезенцеву же предстояла поездка на побережье Цюрихского озера, где в уединённой хижине Кравчинский собирался доработать конструкцию новых бомб и без помехи провести их испытания. Тем паче, что для сих экспериментов он мог использовать французский и английский динамит, изготовленный, соответственно на правительственной фабрике в Вонже и заводе сэра Фридриха Абеля в Вулидже.
Раннее утро шестого сентября 1878 года в Цюрихе было пасмурным, что по всем приметам обещало нудный мелкий дождь, который мог идти до самого вечера. Сие обстоятельство было вполне на руку Кравчинскому, так как можно было не опасаться появления нежелательных свидетелей из числа поклонников красот Нижнего озера и любителей рыбной ловли. Поэтому он был в великолепном настроении и с аппетитом умял банку мясных консервов запивая крепким кофе, сваренным на бульотке оснащённой спиртовкой. Затем, он накинул парусиновый непромокаемый плащ и направился в сарай, где в отдельных ящичках тщательно закутанные в тряпки лежало три готовых образца бомб, отличающихся количеством и типом динамита, а также конструкцией взрывателей. С замком весящем на дверях пришлось повозиться, ибо, не смотря на регулярную смазку, частые дожди и сырость изрядно подпортили его внутренности. Кравчинский чертыхаясь пытался его открыть и поневоле все его внимание было поглощено борьбе с упрямой железякой, а посему он не успел среагировать на легкий шорох сзади. Последовал сильный удар по голове и Сергей Михайлович как подкошенный рухнул на землю.
Сознание вернулось к нему не скоро и реальность была малоприятной. Он лежал на столе со связанными руками и ногами, рот был заткнут кляпом, а двое мужчин в масках деловито растапливали печку, рядом с которой лежало кочерга и несколько железных прутьев. А далее были вопросы, попытка вначале просто молчать, а потом проклинать своих мучителей и много, много боли. Периодически накатывала волна спасательного забытья, но холодная вода возвращала к реальности. Решимость и упрямство постепенно склонились перед мукой, и Кравчинский заговорил. Когда язык начинал заплетаться, то ему заливали в рот коньяк из фляжки и продолжали задавать вопросы.
Говорил только один из них, тот что был пониже ростом, но плотный, коренастый, он производил впечатление весьма опасного человека, с которым сложно было бы справиться даже в дуэльном поединке. Впрочем, никакой дуэли быть не могло: все эти куртуазные выверты не для той тайной войны без правил, в которой завязли герои сего повествования.
— Нас не интересуют ваши сообщники убийства генерала Мезенцева, они нам известны и уже наказаны или будут наказаны в ближайшее время, как и вы. Но вот кто оплатил эту акцию — немаловажный вопрос… у вас десять пальцев на руках? Занимаясь изготовлением таких опасных веществ все они на местах? Непорядок…
От внезапно обрушившейся боли Кравчинский взвыл…
А дальше его снова и снова ломали — физически и психологически. Окончательно пламенного революционера добили сообщением о том, что его жена носит ребенка (это было неправда) и ее тоже могут убить (тоже блеф, но всяко возможно). Тем паче, что лично он именно так и поступил бы в аналогичной ситуации.
— Вы же знаете, что вчера ваша жена посетила врача Альфреда Либербаума? Ах, она вам не успела ничего рассказать, так вы спешили к мадам Кокто?
— А вы знаете, мы можем оставить вам жизнь, правда, я буду обязан переломать вам руки и ноги. Это будет больно. Вы будете инвалидом, но будете жить и увидите, как ваш сын начнет ходить, например…