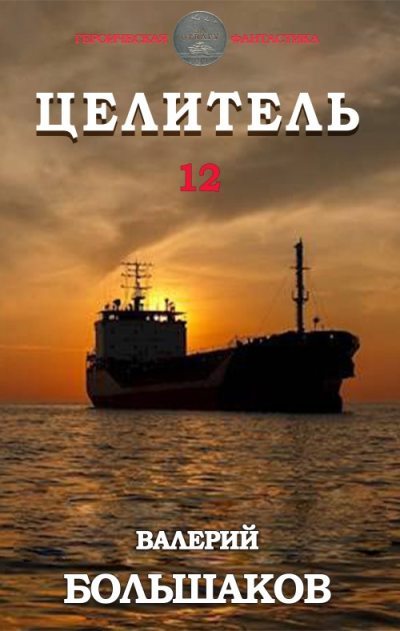улыбка,
Полная задора и огня?
Самая нелепая ошибка —
То, что ты уходишь от меня…
А самое срамное заключается в том, что уже на второй день в Гаване я собрал все паззлы, но так и не выложил из них простенькую картинку.
Видел же, где на самом деле живет Рита — в отеле! Следовательно, на той чертовой асьенде шли съемки. Или то было место для свиданий? Ага… Тогда откуда о нем знала первая прохожая? Ох… «А если… А вдруг…» Тьфу на тебя!
Ну, углядел ты постельную сцену, и что? Олег тискал твою жену? Да он даже не смотрел на нее! Пялился в потолок.
«Не заметил камеры? Ха! А ты ее искал? Ведь даже порог не переступил! А помнишь, какой яркий свет горел в будуаре? Одной люстры не хватило бы на этакое сияние — значит, помогали юпитера, как говорят киношники, ударяя на „а“… А-а! Ритка не всполошилась, не заюлила, оправдываться не стала? А с чего бы ей унижаться?»
Я болезненно сморщился. Сам же всегда утверждал, что одной любви мало, для духовного благополучия необходимы еще два непременных качества — доверие и уважение.
«А ты не поверил Рите…»
Тогда о каком уважении вообще можно говорить? Я длинно вздохнул.
«И что остается? Чувство? Какое? Чувство собственника, на предмет обладания которого якобы покусился соперник? Ну, и кто ты после этого?»
Ох, мне было бы гораздо легче, будь мы с Ритой оба повинны. Но тут, как не крути, как не верти, остается одно — взвыть: «Mea culpa!», и колотить себя в грудь коленом…
А до чего же теперь тягостно дожидаться встречи! Когда она произойдет? Когда я увижу Риту? Да увижу ли вообще⁈ Я ведь не просто плюхаю по «косым скулам океана» — весь этот бесконечный набег волн происходит в ином пространстве! А я даже не попрощался…
— Хватит траура, страдалец, — заворчал я, ерзая, — раньше надо было думать…
А солнце потихоньку садилось, распуская лучи, накаляя небеса всеми оттенками красного и желтого спектра. Сумрак опал сразу, затемняя небо. Закат еще догорал, а пронзительная синева уже накрыла океан, готовясь развешивать гирлянды звезд.
— Ночь светла. В небесном поле бродит Веспер золотой, — унывно зачитал я. — Старый дож плывет в гондоле с догарессой молодой…
Мой одинокий голос звучал слабо и беспомощно, забиваемый шумом катившихся валов, но я упрямо чеканил строки Пушкина, дописанные Токмаковым:
Догаресса молодая
На подушки прилегла,
Безучастно наблюдая
Танец легкого весла.
Что красавице светила?
Что ей ход небесных сфер?
Молчалив супруг постылый,
Безутешен гондольер.
Не о том ли в час разлуки
Над Венецией ночной
Льются горестные звуки
Баркаролы заказной?
— Да-а… — с чувством произнес я, жмурясь на тающий багрец. — У Лёвы Токмакова куда лучше вышло, чем у Майкова! Как там, у Аполлоши?
Занимает догарессу
Умной речью дож седой…
Слово каждое по весу —
Что червонец дорогой…
Тешит он ее картиной,
Как Венеция, тишком,
Весь, как тонкой паутиной,
Мир опутала кругом…
— Да ну! — фыркнул я, и зажмурился с удовольствием. — Не-е… Фигня! Растянул нескладные длинноты, а у Токмакова целая драма — в четырех строфах! Конгениально…
Непонятный звук заставил меня смолкнуть. Некое мерное дрожанье давненько тревожило уши, однако я далеко не сразу обратил на него внимание. А когда, наконец, изволил развернуть тулово к югу, вскочил, как ужаленный — параллельным курсом шел огромный белый пароход!
Целую секунду я растерянно глядел на него, и лишь затем запрыгал, заорал, замахал руками. Ноль внимания!
Сердце колотилось о ребра, я задыхался, когда сорвал с себя тельняшку, облил ее виски, и поджег. Огонь обжигал