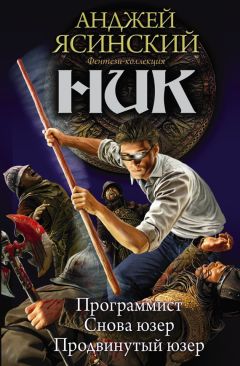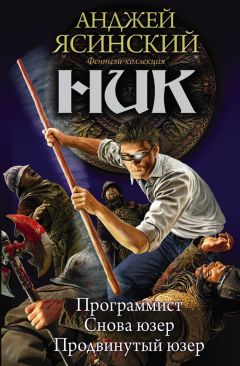Нас оставили прикрывать Кронштадт. Четыре вылета на барражирование каждый день. Жжем топливо, почти без цели, демонстрируя, что мы на страже. Через месяц объявили об освобождении Тихвина. Приехала Людмила. У неё увольнительная на два дня. Я вписал её фамилию и полевую почту в свою лётную книжку месяц назад. Она раскрутила гильзу, которая висит у неё на груди: там моя фамилия и моя полевая почта.
— Я хочу стать твоей женой, — это было первое, что я услышал у причала на Морзаводе. Мы пошли в город, и нашли ЗАГС недалеко от Центральной площади. По дороге Люда рассказывала, что с ней что-то произошло, что тот день не выходит из памяти. — Самое противное: я стала бояться смерти. Раньше я выходила на позицию, и мне было всё равно: вернусь – не вернусь. Сейчас я долго и упорно маскируюсь, бью один раз, и срочно меняю позицию. Боюсь умереть и потерять тебя. И попробуй только умереть сам! Я тебе этого не прощу!
Мы расписались в городском ЗАГСе Кронштадта, пришли в полк, и объявили об этом. Нас поздравил капитан Охтень и комиссар полка Захаров. От выпивки мы отказались и ушли в мою землянку. Люда, зачем-то, убралась в землянке, растопила буржуйку, вычистила свою СВТ, вышла на улицу и вымыла руки. Затем вернулась и усадила меня на мою постель.
— Мне постоянно казалось, что это был сон! Не знаю почему. Но ты мне снился каждую ночь, — я поцеловал её золотую прядку волос.
— Не делай этого, я стесняюсь. Господи! Какая я дура! Ты же – мой муж!
Она сняла маскировочный костюм, ватник, гимнастёрку, осталась в хлопчатобумажной майке, в сапогах и в брюках. Я встал и закрыл на засов дверь в землянку. Буржуйка ещё не раскалилась, и в землянке было довольно прохладно. Руки Людмилы покрылись мелкими пупырышками. Ей было холодно. Я накрыл её шерстяным верблюжьим одеялом. Она легла рядом и задрожала ещё больше.
— Меня колотит, как в первый раз на позиции! — попыталась улыбнуться Люда. Я промолчал, но поцеловал её.
— Ещё, пожалуйста! Я так соскучилась по тебе!
— Ты получила мои письма?
— Да! Я их получала каждый день! Одно потерялось. У нас убили почтальона. Расскажи мне, что было в этом письме!
— Только то, что я тебя люблю, и, как ты и просила, продолжаю бить фашистов.
— Потуши свет, пожалуйста. Мне очень нравятся отсветы из печи.
Я задул коптилку и снял гимнастерку.
— Только не торопись. Мне немного страшно. Понимаю, что ты мой муж, что я люблю тебя. Но всё равно страшно.
— Я тебя люблю, маленькая моя!
— Я выше тебя на 8-10 сантиметров! — она уложила голову мне на грудь и сжала своими ладошками мои руки.
— И что? Это тебе мешает?
— Нисколечки! Но мне интересно, насколько это мешает тебе? — она завозилась с брюками, сбросила сапоги и забралась полностью под одеяло.
— У меня есть один большой секрет: я всё это делаю в первый раз в жизни. Но, мне всё это очень нравится. Я тебя люблю, Павел! — она повернулась лицом ко мне, и наши губы слились в долгом поцелуе. Больше слов не было. Только то, что нас уже не разлучить.
К сожалению, это были грёзы! Реально, через день Люда ушла на катере в Рамбов, в свою бригаду, и, наверное, в тот же день пошла на нейтралку. Мы летали на штурмовку, вялые и вязкие бои с истребителями немцев, морозы, битва под Москвой. Всё это прошло мимо нас, не задев смертельными шипами.
На Новый Год Людмила сказала, что у нас есть маленькие проблемы: у неё не пошли месячные. А я не знал, где живут мои родители! Я пошёл к майору Охтеню с рапортом о переводе Люды в наш полк. Командир был пьян, и нёс околесицу, но рапорт подписал. Люда надулась на меня, хотя я сделал всё то, что было нужно. Но ночью я был вознаграждён полностью:
— Господи, как я соскучилась! — прошептала Людмила мне на ухо!
Рано утром меня выдернул из койки сигнал тревоги. Форсируя не полностью прогретые двигатели, полк уходил в бой. Моя пара пристроилась последней. Затем был долгий и муторный бой с 54 эскадрой. Немцы подтягивали резервы, мы – тоже, но мы знали, что это всё – отвлекающий манёвр. Требовался решительный удар. Но сил на него ни у кого не было.
Потом начались неприятности. У меня было больше всех сбитых на всем Ленинградском фронте: 14, из них 9 истребителей. Пришлось выступать на фронтовой конференции. Я "не узнал" комиссара 5-го иап (откуда я мог его знать? Я его в глаза не видел!!!). Плюс, автором письма какой-то девицы, которое я нашёл у себя в кармане после первого боя, оказалась его дочь. Два раза какие-то письма приходили, я их рвал, не читая. Изобразить почерк Титова я не мог. Отношения совершенно не известны. На фига мне это нужно? Я "пошёл в отказ": ничего не помню, контузия: взрыв пушечного снаряда за бронеспинкой, в двух сантиметрах от головы. Никому ничего не говорил, так как боялся, что спишут по здоровью. Но выкрутиться не удалось. Видимо, у комиссара было прикрытие. Нас арестовали, и меня, и Людмилу. Посадили в ПС-84 и повезли на Большую землю. У Жихарёво мы были атакованы "мессерами". Несколько очередей пробило корпус. Были убиты два сержанта НКВД, техник самолёта, мы вошли в пикирование. Я вполз в кабину. Оба пилота убиты, самолёт падает. Удалось освободить место командира и сесть за штурвал. Тяну штурвал на себя, самолёт слушается. Выровнялся у самой земли. "Мессера" не отстают. Людмила села на место стрелка и двумя короткими очередями отправила обоих "мессеров" на землю. Снайпер, всё-таки. Но, бензобаки пробиты, левый двигатель заклинило, стабилизатор, практически, представляет из себя мочалку. До линии Волховского фронта 15 километров. А высота 400 метров. Ползу, чуть ли не деревья цепляю. Перевалил за Лаврово, тут уже наши, и сел на брюхо сразу за линией фронта. Попался на глаза командующему 4-й армией генералу Мерецкову. Кто-то из убитых вёз ему пакет. Доложил, что арестованный лейтенант Титов посадил подбитый транспортник, и готов следовать к месту ареста.
— У тебя с головой, лейтенант, как, всё в порядке?
— Вроде да!
— Ты из какого полка?
— 13-й иап КБФ.
— Если бы эти бумаги попали немцам, была бы полная задница! Возвращаешься домой. Следствие по тебе будет закрыто. Я распоряжусь, чтобы тебе дали У-2. Гаврилов! Что там у тебя по лейтенанту?
— Измена Родине. Не помнит никого из своего старого полка. Похоже на амнезию. Вроде бы контузия, но записей в медицинской книжке об этом нет.
— Лейтенант! Контузия была?
— Да, товарищ генерал, но я её скрыл. Списать могли.
Мерецков подошёл ко мне, посмотрел в глаза:
— Воюй, лейтенант! А это кто?
— Моя жена.
— Её за что?
— Не знаю, товарищ генерал. Она была снайпером 6 БрМП в Рамбове. Сейчас – оружейница 13-го иап.
— Это теперь не 13-й иап, а 4-й гвардейский иап, товарищ гвардии лейтенант и гвардии главный старшина. Ещё раз спасибо, гвардейцы, что посадили самолёт.
Возвращение не было триумфальным. Мое место уже занято, моя землянка тоже. Охтеня сняли с должности, он последнее время много пил и перестал летать. Новый командир – из моего старого 5-го полка. Он меня помнит, я его не знаю. Возвращать меня на должность командира 4-й эскадрильи он отказался. Самолёт мне не вернули. Я стал "безлошадным". Это совсем плохо. Самолётов нет, а болтающихся без дела лётчиков много. Жить нам стало негде. Люда поселилась в землянке оружейниц и крутила ручку машинки, набивая пулемётные ленты. Я бросил вещмешок в землянку 2 эскадрильи, меня направили туда рядовым лётчиком, и пошёл в штаб бригады. Романенко и комиссар Иванов выслушали меня, я показал сопроводительное письмо особого отдела 4-й армии, рассказал о том, что случилось после прилёта обратно, и что у меня отобрали самолёт. Романенко снял трубку и приказал Михайлову прибыть в штаб бригады. Разговор у них шёл на повышенных тонах.
— Я этого разгильдяя знаю с 40-го года! У него вечно что-нибудь не так, как у людей! То заблудится, то напьётся, то драку устроит, то самолёт поломает!
— Он у меня в полку с августа 41-го. Я его командиром 13-й эскадрильи поставил, и не за красивые глаза. У него больше всех сбитых на всем Ленинградском фронте, и самые маленькие потери: с сентября эскадрилья потеряла только одного человека и два самолёта. Ты что ж творишь? Не успел полк принять, а уже раздербанил лучшую эскадрилью полка?
— Но он же под следствием был! Как я могу ему доверять?
— Ты вот это читал? — Романенко сунул ему в лицо постановление Особого отдела об остановке следствия. — Мало ли что на фронте может произойти. Не помнит он ничего, что было до 21 июля 41 года. Отца с матерью не помнит, но летает и бьёт фашистов. Не знаю как тебе, а мне этого достаточно.
Тут в штаб вошла в полном составе моя бывшая эскадрилья. Стоят, прислушиваются к разговору. Романенко повернулся к ним:
— А вы чего сюда припёрлись?
— Из-за командира! — сказал Макеев. — Командир вернулся, а его во вторую перевели. Просим вернуть нам командира. Несправедливо это!