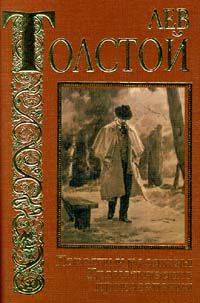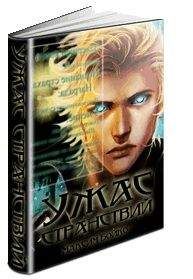Благодаря всему этому колющему, режущему и стреляющему железу, вид мужчина имел неимоверно брутальный и грозящийся, но какой-то ненастоящий, почти театральный. Словно опереточный злодей вдруг сбежал с подмостков убогого провинциального театра и теперь бродил в веселящейся толпе, в костюме и гриме, пугая своей воинственной бутафорией добрых людей.
— Все продолжаешь развлекаться, Бруно? Все персонируешь того персонажа из оперетты… Из этой, какой ее там?
— Благородная домуазель Анна и смелый «морской» рыцарь Фарлоу, милорд. «Любовь в шторм», авторства маэстро Лорртеро Маккулиани.
— Да, вот именно. Именно его, этого Маккулиани, который маэстро. Не надоело тебе еще это фиглярство? Выглядишь как наш шут на дне праздновании Победы на Весстских холмах.
— Нет милорд, мне не надоело. И вид мой мне нравиться, прошу прощения за дерзость, милорд.
Сильные руки Бруно, аккуратно расставив блюда с едой, наполнили бокал из сосуда, обернутого несколькими слоями ткани. Легкий парок от еды и тяжелый, насыщенный аромат подогретого, настоящего виннийского, коснулись ноздрей Леонардо. Он не удержался, чуть наклонился к бокалу, еще раз втянул запах полуденного солнца, жаркого неба, налитых соком виноградных лоз, легкой дымки сжигаемых засохших отводок. Запах родного дома. Бруно тем временем переместился ему за спину, широкие ладони опустились на плечи Леонардо. Крепкие пальцы пробежались по мускулам плеч и спины скрывающимся под шелковой тканью рубахи. Чутко надавили, вначале осторожно, а потом грубо вмялись, с силой разминая трапециевидную мышцу, потянули на себя и вверх дельтовидные.
— Ох! Прекрасно, Бруно! Продолжай!
— Благодарю вас, милорд. Рад вам служить.
Отрезать кусочек мяса птицы, тщательно разжевать, подцепить двузубой вилкой нарезанное… Или нарезанный? А, не важно! Какой-то местный овощ. Подцепить с горкой глубокой ложкой тушенное нечто из овощей. Запить все это небольшим глотком вина. Чудесно, превосходно! Повторить.
Чуть насытившись, Леонардо, аккуратно протер уголки губ, положил приборы на край блюда, взяв в руки бокал с вином, на пол сектора клепсидры повернул голову влево:
— И все же, Бруно? Мне интересно — сколько ты еще будешь пугать своим видом несчастных горожан и добрых братьев приората? На тебя жалуются.
Крепкие пальцы на мгновение замерли и вновь продолжили разминать мышцы плеч Леонардо. Негромкий хмык и голос Бруно чуть изменился, в нем появились забавные, смущающиеся нотки, речь его неожиданно огрубела и упростилась до лексикона портовых грузчиков и неграмотных подмастерьев:
— Ну они, милорд, тут… То есть людишки местные, милорд. Они такие пугающиеся всего. И очень забавные. И еще, милорд…. Женщины… Местные женщины…. Они, когда видят меня, такого, всего прям воинственного, милорд…. То, это, сами они ко мне, и я даже ни сантима…
— Все, все, хватит! Замолчи Бруно! Хватит смешить меня, разговаривая как простец! — Леонардо громко рассмеялся — Хочешь ходить обвешанный оружием как Ель Зимнего праздника, так ходи! Тем более, женщины!
Женщины! Ну куда же без них! Ох, Бруно, Бруно…. Уже сед как луна, уже четыре сына внебрачных на стороне да две дочери, это точно известно, а сколько неизвестных? Все жалованье уходит на любовниц и бастардов от них, но все никак не угомониться! Как отвечал отец любимой матушке на ее жалобу об очередном приставании Бруно к ее служанкам: «Этого жеребца только смерть остановит или же острый нож лекаря! Но умирать ему без моего дозволения нельзя, а скопцы мне в слугах не нужны! Так что, дорогая, пусть его, пусть резвиться! Мне нужны хорошие солдаты!».
Леонардо негромко фыркнул, вспоминая очень рассерженное и возмущенное лицо милой матушки грубоватым ответом отца и запил терпким вином улыбку и кусок прожеванного мяса. И еще кусок этого, неизвестного ему овоща.
— Ваше сиятельство?
— Мм-м… Да, Бруно?
— Развеяться бы вам, милорд.
— Развеяться, Бруно? Что ты подразумеваешь под этим выражением, неграмотный простец? Где ты это услышал? На пашне? — Леонардо открыто веселился, Бруно сохранял заботливое и участливое выражение на своем лице. Оно, это выражение, ему не шло совершенно.
— Отдых от ваших дел, милорд. Небольшая лесная конная прогулка. Затем стрельба из ваших великолепных револьверов по вороньим гнездам. Звон клинков, скрещенных в imbroccata, шаги по снегу, переходы в la guardia di seconda. А затем холодное пиво или кислое разбавленное вино в местном трактире, сочный жаренный поросенок на столе, вот только-только с вертела. А может и какая привлекательная служанка вам подвернется, милорд. Или чья-то юная дочка — мельника там или трактирщика. Два полновесных флорина, уютная комнатка наверху, опытность и умение, а может и неожиданная невинность. Милорд?
— Ого, Бруно! Да ты просто поэт!
— Можно и бард и маэстро поэм в одном лице, милорд. Все как будет угодно вашему сиятельству.
Леонардо коротко пробарабанил кончиками пальцев по столешнице, резко сжал кулак:
— Развеяться, говоришь. Пострелять? Из моих лучших во всей империи револьверов? Симпатичная служанка? Вкусный жаренный поросенок? А почему бы и нет, Бруно? Почему бы и нет?
Он задумчиво сделал глубокий глоток из толстостенного стеклянного бокала. Поморщился. Фу, пить отличное виннское из вульгарного стеклянного бокала! Не из хрустального, на тончайшей ножке, тонкостенного фужера! Какой стыд! Чуть свел брови к переносице, прикидывая и просчитывая.
— Хорошо, Бруно! Развеемся! Готовь лошадей и оружие, но не с рассвета, а к восьмому удару колокола. Я хочу выспаться.
Леонардо с ненавистью покосился на правую стопку протоколов — работы тут до первых звезд, раньше он точно не закончит. Поэтому, отдохнуть ему крайне необходимо!
Глава 2
О конных прогулках, холодном снеге, дестрезе, о мерах безопасности при стрельбе из револьверов и неожиданной встречи на тракте.
Когда уже преодолели утреннею толчею у ворот и вынеслись рысью на пустой участок главного тракта, Леонардо вдруг резко натянул поводья, осаживая своего скакуна. Гнедой жеребец, носящий гордое имя Инвиктус, Неодолимы, злющий и с отвратительным характером, затанцевал, пошел боком. Злобно загрыз удила с возмущенным храпом и недовольным взвизгиванием, но сильный хлопок ладонью между его ушей усмирил начинающийся бунт.
Леонардо развернулся в седле, вскинул ладонь к глазам, прикрывая их от яркого света утреннего солнца. Тогда, две недели назад, они въехали в город ночью и в свете коптящих факелов и редких масляных светильников он почти ничего и не разглядел.
А на город стоило посмотреть, город Нуэлл был невероятно красив. Аккуратен высокими стенами из белого камня, строен тонкими линиями надвратной и угловых башен, пышен широким барбаканом, с толстым самодовольным бруствером наверху, скалящегося острыми зубцами и горд острыми шпилями башен и кампанил. Здания соборов, ратуши и дворца Наместника возвышались над угрюмо-тяжеловесными стенами города, упрямо пытаясь взлететь в невероятно чистое весеннее небо, плавясь яркой киноварью черепиц крыш-крыльев, искрились бесценными бриллиантами стекол узких стрельчатых окон, остужая теплый весенний воздух холодом мраморной облицовки стен. А блистающие под солнечными лучами жестяные флюгера в виде рыцарей и сказочных существ хранили покой города вместе с грозными львиными мордами сливных желобов домов.
И еще город Нуэллл был очень зеленым и ярким. Цветущим. Не сейчас, разумеется, в самом начале весны, а на пике лета. Сочен зеленью стройных кипарисов — и как они только растут в таком холоде? — кипенно бел невесомым пухом тополей, робко-нежен редкостью изумрудных пихт в аллеях.
Город был ярок и одновременно темен кустарниками, кустами, бесчисленными цветочными клумбами и мириадами горшков со цветами, что стояли у дверей в дома добрых горожан. Гроздьями свисали на грубо откованных цепях и веревках. Теснились разноцветной толпой на подоконниках. Гордо, а где-то и высокомерно, возвышались на опорных столбах ворот и даже, по-простому, до хамской наглости, разваливались на брусчатке мостовой. Везде и всюду. И когда всадник, держащий поперек седла мерный шест, проезжал по улицам города, то его сопровождал грохот разбиваемых горшков и густой запах сырой земли. А возмущенным и недовольным горожанам стража тыкала в надпись на соборах и ратуше: «Diz ist die masze des uberhanges» — «Вот мера, допускающая навесы или выступы». Те же кто был без ума и наглел и упрямился, платили штраф городскому совету. А особо крикливые да и не очень умные, помимо штрафа подвергались порке плетью или вымоченными розгами в зависимости от настроения фогта-покровителя — договорного градоправителя. И жаловаться на городском вече — placitum legitimum — на причиненные обиды и ущерб мошне смысла не было. Вот таков городской закон непреклонно и неумолимо исполняемый бургомистром и ратманами. Наместник Императора же в сии мелкие дрязги не вмешивался.