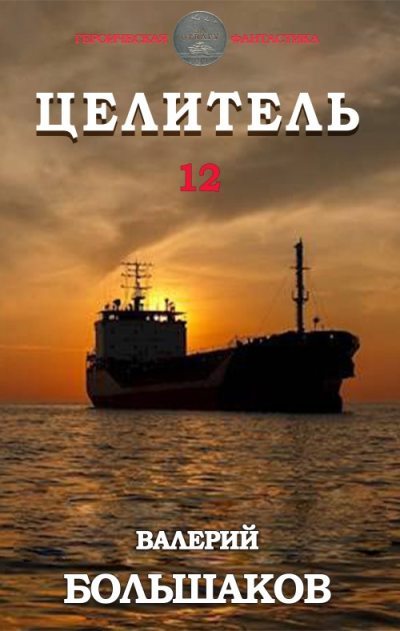решение, и что их предложение бессрочное, всегда добро пожаловать… Думаешь, она хотела завербовать меня в Моссад?
— Уверен, — обронил я.
Думая о своем, о девичьем, Наташа бросила в джезву стручок кардамона, затем осторожно накапала зелье. Подумала, и добавила щепотку мускатного ореха и пару цветочков гвоздики.
— Это, как говорит рабби Рехавам, для усиления эмоциональной составляющей! — ответила девушка на мой вопросительный взгляд. — Теперь… доливаем холодной воды, ниже двух пальцев от горлышка… И на огонь. Лучше всего на спиртовке, конечно, но и газ сойдет… — она опустила турку на голубой трепещущий венчик. — Стережем…
Дождавшись, пока шоколадная пенка набухнет шляпкой гриба-боровика, златовласка ловко сняла сосуд с конфорки, постучала донышком по войлочной ухватке — и снова поставила на огонь. Повторив сей пассаж четырежды, Наташа вдохнула исходящий аромат — ее довольное личико изобразило высшую степень блаженства — и отставила парящую джезву на суконку.
— Это не кофе, — с чувством изрекла она, — а мечта истинных ценителей!
Я смутно улыбнулся — не до того было. Наташа услаждала мое зрение. Ей сейчас, как в сказке — тридцать лет и три года, но я вижу двадцатилетнюю девчонку. И всё в ней будоражит воображение точеным великолепием, той самой высшей биологической целесообразностью — стройная «лебединая» шея, дивные покатые плечи и тугие шары грудей, прикрытые слегка тесноватой блузкой, амфорная линия бедер и длинные ноги — они выгодно обтянуты слегка потертыми джинсами… Вот только всё это нудное перечисление — бледный оттиск реальной красы!
Огромные, с легкой раскосинкой глаза Иверневой, как и ее грудь, полностью завладели моим вниманием. В зависимости от освещения или текущей эмоции, Наташин взгляд менял цвет от небесно-голубого до густо-сапфирового.
«Надо же… — подумал я. — Прямо „Сердце океана“!»
Не совладав с собой, я произнес последние слова вслух. Наташка быстро разлила бедуинское варево по чашкам и, по-балетному присев, уперла в подбородок кулачки:
— Что еще за сердце океана?
— Это самоцвет такой — дорогой, редкий и очень красивый. Вообще-то он называется танзанит, но лет через восемь ему дадут именно такое название: «Сердце океана», — подумав, я малость приоткрыл будущее. — В девяносто седьмом Джеймс Кэмерон снимет эпическую драму «Титаник». Сюжет пересказывать не стану, а то тебе потом неинтересно смотреть будет. В общем, там фигурировала драгоценная подвеска с синим бриллиантом в виде сердечка — тем самым «Сердцем океана». Но оказалось, что синие алмазы — редкость несусветная, а сапфир не давал нужной игры света. И тогда Генри Платт, президент «Тиффани», предложил Кэмерону сделать вставку из недавно открытого танзанита — все просто ахнули! Куда тому бриллианту! Смотря, как падает свет, танзанит может быть и голубым, как незабудка, и густо-синим, как вечерний сумрак, а в лучах заката отливает сине-фиолетовым аметистом. Вот такой самоцвет, прямо как твои глаза. Смотрю — не оторваться! — заключил я, ложечкой выковыривая мармелад из курабьешек.
— Да-да… — пропела Наташа с ласковой насмешкой. — Это все здорово, только ты никак не можешь решить, от чего же тебе не оторваться! Вон, правым глазом мне в зрачки целишься, а левым — гораздо, гора-аздо ниже! Хочешь вертикальное косоглазие заработать?
— Ну, а что я могу поделать? — вздохнул я с притворной грустью. — Грудь-то у тебя тоже бесподобная…
Девушка заметно смутилась, отвела взгляд — и обрадованно встрепенулась.
— Ой, кофе-то стынет! Вот, балда… Пей скорее!
Я сделал большой глоток — и удивленно задрал бровь.
— Ничего себе… Никогда такого не пил!
Наташа залучилась, поглядывая из-за синей чашки. Допив свой кофий, она провела кончиком пальца по фаянсовой кромке.
— Миш, скажи… «Бесподобная» — это комплимент?
Я отрицательно покачал головой.
— Нет. Комплимент — это, когда толстушке говоришь, что она стройняшка. А у меня принцип — никогда не обманывать девушек…
Допивая «бедуинский» настой, я почувствовал легкое головокружение, а затем накатила блаженная раскованность.
«Ого, крепкий какой!»
Наташа сильно наклонила голову, руками приподнимая груди — видать, тоже кофий подействовал. Или зелье?
— Да неужели они лучше, чем у твоей? — задумалась девушка, уже почему-то не стыдясь. — Рита ведь гораздо красивей меня!
— Вас нельзя сравнивать, — мотнул я головой, и отставил пустую чашку. — Ты, Наташ, совсем другая.
— А как же Инна? — Ивернева поймала мой взгляд. — У тебя ведь и с ней отношения были? Она тоже блондинка и… и голубоглазая!
— Инна хороша по-своему, у ней своё, нордическое очарование, и глаза, бывает, искрятся голубыми всполохами, — рассудил я. — Но красота твоя иной природы. Ты берёшь некоей первозданностью, что ли. В тебе видны черты женщин народа, жившего на Русской равнине, еще когда Париж звался Лютецией, а на месте Лондона и Берлина лягухи квакали…
Наташа смотрела на меня, глаза в глаза, замирая и чаруя.
— А кто тут вообще тогда жил? Эрзя? Или чудь белоглазая?
— Не знаю, — мои губы повело в дремотную улыбку. — Наверное, чудь, только не белоглазая, а синеглазая. И златовласая.
Ивернева зарделась, как прежде.
— Вот и ты туда же! — забормотала она смущенно. — Рабби Рехавам тоже всё меня разглядывал и пытался угадать, чьих я кровей. Ну он-то старый… наверное, восемьдесят с хвостиком, так что ему простительно…
— Наташка, не забывай — моему сознанию тоже девяносто лет!
— Миша, да быть такого не может! — по-дружески возмутилась девушка. — Ты пятьдесят восьмого года рождения, в две тыщи восемнадцатом тебе было шестьдесят лет. Так ведь? В этом возрасте твоё сознание перенесли в семьдесят четвертый год. Прошло ещё пятнадцать лет, и сейчас твоей личности, твоей душе должно быть семьдесят пять, а никак не девяносто! Правильно?
— Ну-у, вроде да… Просто я суммировал свой нынешний возраст с прошлым.
— А зачем суммировать-то? — озадачилась Наташа. — Твоему телу тридцать один год, а сознанию — семьдесят пять, ты ещё вполне крепкий старик, Розенбом! И перестань выковыривать мармелад из курабье! — заворчала она. — Вон уже четвёртую печенюшку испортил…
Ивернева снова подлила мне кофе, и хихикнула, наблюдая за моим шаловливым взглядом.
— А ещё… М-м… Что я хотела спросить? А! Ты так и не ответил мне, что тебя реально заставило согласиться на… э-э… «ауто-транс-плантацию сознания», — высказалась она, сцеживая себе остаток кофе. — Подогреть?
— Не надо, — мотнул я головой, — микроволновка вкус крадет.
— Ты прав… — девушка сделала большой глоток, и повела чашкой. — В общем, складывается впечатление, что желание спасти Марину Исаеву для тебя было решающим.
Я задумался.
— Знаешь, Наташа, через четыре года Спилберг снимет кино про немца, который выкупал пленных… Так он спас жизни тысячи двухсот человек. Не скажу, что фильм потряс меня, но в нем прозвучала фраза, которую я запомнил: «Спасший одну жизнь, спасает весь мир». Так вот, спасти СССР и спасти Марину для меня было как бы одним и тем же.
— Коль ха-мекайем нефеш ахат кеилю кайям олам кулё, — проговорила Наташа нараспев.
— М-м… — завис я. — Что ты сказала?
— То же, что и ты, — расплылась девушка в улыбку, — только на иврите. Перевод не совсем дословный, но смысл — тот. Рабби как-то рассказывал мне эту историю… Звали немца Оскар Шиндлер, а эта фраза выбита на вратах Яд Вашема в Иерусалиме.
— Так ты выучила иврит, чтобы читать кумранские свитки⁈ — изумился я. — Ну ты даёшь, мне бы точно не смочь!
— Ой, да что тут такого, — отмахнулась девушка, — иврит совсем не сложный, просто необычный.
— А скажи ещё что-нибудь!
Наташа сладко улыбнулась.
— Анú охэвет отхá.
— А что это значит?
— Я тебя люблю.
— Анú охэвет отхá… Я правильно сказал?
— Произношение верное, но так говорит женщина мужчине, а тебе надо сказать: «Анú охэв отáх!»
— А-а… Кажется, понял… В иврите окончания личных местоимений… второго лица… зависят от рода?
— И это тоже…
— А что ещё?
— Женщины и мужчины любят по-разному…
Наталья гибко встала. Поднялся и я, ощущая странное напряжение в мышцах, что прорывалось слабой дрожью. Было такое ощущение, что сознание мало-помалу уступает чему-то иному — властному и совершенному, высшему и светлому… Или это подавленный разум сам себя утешал?
— Мне никто больше не нужен, только ты один… — еле вымолвила девушка. — Я не могу без тебя… Миша, ты же сам говорил мне, что нас очень мало, человек пятнадцать на шесть миллиардов. Это ничто, да и то половина не подозревает даже о своих реальных способностях. Чем больше