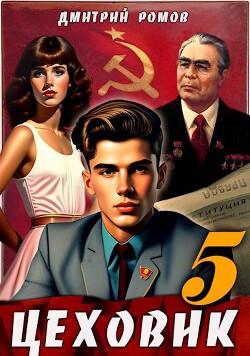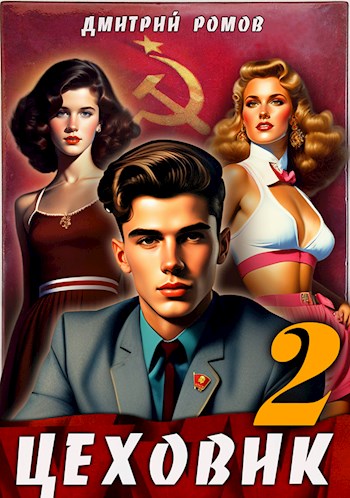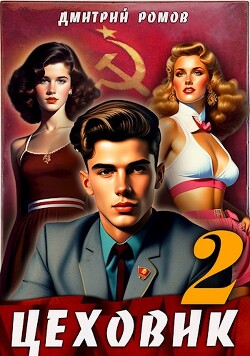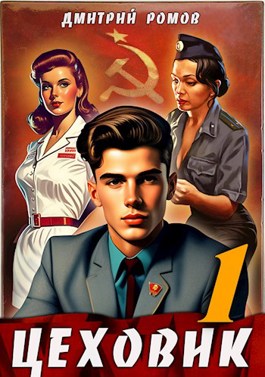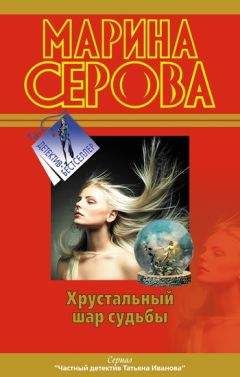Тренировка не ладится. Скачков вздёрнут, все наши вздёрнуты, местные понять не могут в чём дело. Блин!
Проходит минут пятнадцать и в зал входят Артём и Трыня.
Андрюха сразу подходит ко мне и мы обнимаемся. Выглядит он не очень, но держится. Все наши сразу нас обступают. Детдомовские тоже кучкуются рядом, пытаются сообразить, что к чему.
— Артамон, брат, спасибо, — киваю я.
— Если меня уволят, будешь сам трудоустраивать, понял? — хмуро отвечает он.
— Андрюх, куда?
— Не знаю точно, — со вздохом отвечает он, — в приёмник какой-то… Сегодня утром суд прошёл. Батю прав лишили. Блин, нахрена такой закон вообще? Лучше бы всё было, как было, спокойно бы доучился и всё.
— А зачем в приёмник? Ты же не беглец какой-то…
— Да откуда я-то… — начинает он и замолкает, потому что замечает Юльку.
— Привет, — смущённо говорит она.
— Чё за баба? Чё за баба? — проносится шепоток по толпе детдомовских.
Трыня краснеет, как помидор и делается скованным, будто кол проглотил.
— Привет, — выдавливает он.
— Не переживай, — продолжает она. — Даже если тебя куда-нибудь далеко отошлют, мы тебя найдём. Егор найдёт. Он тебя в обиду не даст, ты же знаешь. А время быстро пролетит.
Она кладёт руку ему на плечо.
— Я буду тебе письма писать. А потом, когда всё закончится, всё вообще по-другому станет. Вот увидишь. Ты главное…
— А это что ещё такое! — раздаётся от двери громогласный голос Грабовской. — Это кто разрешил⁈ Почему Терентьев здесь⁈ Быстро увести его!!!
— Сейчас попрощаемся и он пойдёт, — спокойно отвечаю я. — Несколько минут ещё.
— Это кто здесь распоряжается⁈ Втёрлись в доверие понимаешь ли! Патриоты-комсомольцы!
Она огромными шагами подскакивает к нам и уже тянет руку к Трыне, но я встаю прямо перед ней и, глядя из-под нахмуренных бровей твёрдо повторяю:
— Попрощаемся и он пойдёт. Только тогда, Тамара Григорьевна.
Её лицо горит от гнева, щёки пылают огнём, а глаза мечут молнии, но встретившись со мной взглядом она осекается.
— Немедленно, — говорит она, но уже без дикого напора и агрессии.
— Да, — отвечаю я, — пару минут нам дайте.
Она стоит и, сверкая глазами наблюдает, как все наши пацаны и Скачков подходят к Андрюхе и крепко его обнимают, подбадривают, хлопают по плечу. Потом подхожу и я, снова сжимаю в объятиях и тихонько говорю:
— Прости, брат, что ещё не вытащил тебя, но я что-нибудь придумаю. Мне Платоныч поможет, я всех на уши поставлю, но верну тебя обратно. Ты держись главное, не падай духом. Всё путём будет. Лады?
Он только кивает, говорить не может, в глазах слёзы стоят. Последней подходит Юлька. Я делаю остальным знак и парни отходят в сторонку. Она останавливается напротив него и что-то тихонько говорит. Трыня часто кивает, молча.
— Ну, хватит! — громыхает Грабовская.
Юлька вздрагивает и резко обнимает Трыню, прижимаясь к нему всем телом. А потом… А потом она целует его в губы. По-детски, едва касаясь, но у всех на виду. Директриса дёргается, как от пощёчины, а пацанва издаёт громкий вздох, моментально превращающийся в гул пчелиного улья.
— Ладно, ребят, — говорит Андрей, — я пошёл. Спасибо вам всем.
Он поднимает кулак в интернациональном приветствии и, повернувшись, идёт на выход из зала. Приободрённый, не сдавшийся и обрётший веру в будущее. Ну, и в любовь, разумеется.
— Благодарю вас, Тамара Григорьевна, — говорю я, подойдя к ней. — Вы не могли бы мне сказать, куда именно направляют Андрея?
— Чтобы больше, — чеканит она слова, — я здесь не видела ни тебя, ни кого из твоих подельников. Вопрос с вами я буду решать на уровне обкома партии.
Пчелиный рой, лишённый тренировок, начинает гудеть громко и недовольно.
— Что же, — отвечаю я, — боюсь вопрос решать буду я, причём на самых разных уровнях, я уверен, такой эсэсовке как вы, точно нельзя работать с детьми. Подыщем вам что-нибудь не требующее гуманистического подхода, какую-нибудь работу с неодушевлёнными предметами.
Она задыхается от возмущения, но я не обращаю на неё внимания и прохожу мимо.
— Не дрейфьте, пацаны, — обращаюсь я к возмущённым детдомовцам, — мы это дело так не оставим. Будет и на вашей улице праздник.
— Егор, слушай, — говорит Скачков, когда мы едем из Берёзовского. — Хочу посоветоваться.
Пацаны все понуро молчат, Юля Бондаренко тоже. Она смотрит в окно и трёт глаза время от времени.
— Да, Виталий Тимурович, — отвечаю я, нависая над мотором.
— Я, короче, присмотрел всё-таки тачку одну, не знаю, может тебе не понравится, конечно… В общем, была там «Волга» двадцать первая. Она прямо в идеальном состоянии, как говорится, муха не… сидела. Хозяин говорит, стояла в гараже, ездила мало. Он дед старый, думаю, не врёт. Может сейчас подскочим все вместе, глянем? Он мне адрес свой оставил.
Я соглашаюсь, тем более, как выясняется, нам по пути.
— Это на Радуге, — говорит Скачков. — Совсем немного отклонимся от маршрута. Пять минут потеряем.
Машина действительно выглядит, как новенькая. Я вообще двадцать первую всегда любил. Цвет кофе с молоком, внутри всё новёхонькое, голубой прозрачный полукупол спидометра, такие же козырьки, в общем, огонь машина, на капоте олень. Пробег вообще смешной. Модель, ясно дело, древняя, уже десять лет не выпускается, но по городу таких ещё немало носится, ресурс у них, что надо.
— Оленя сын ставил, — говорит хозяин, — это ведь третья серия, она без оленя шла, но ему нравилось. Поставил, да так и не поездил…
Дед вздыхает.
— Печальная там история, — тихонько говорит мне на ухо тренер.
В общем, я даю добро. Цена тоже оказывается очень даже подходящей. Мы сторговываемся на семи тысячах. Договариваемся, что завтра утром подъедут Скачков с Юркой и привезут деньги, а потом поедут оформлять через комиссионку и всё такое. На этом и расстаёмся.
Я захожу домой. Родители на работе, сонный Радж вяло, по обязанности машет хвостом и зевает, широко разинув пасть. Я подхожу к тумбочке и снимаю телефонную трубку. Кручу диск, набирая Платоныча. Занято, ну ёлки…
Из радио на кухне доносится голос диктора:
«Погоня, слова: Роберта Рождественского, музыка: Яна Френкеля. Исполняет Большой детский хор Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением Виктора Попова».
Снова набираю номер Платоныча, теперь уже под быстрые тревожные звуки вступления. Опять занято…
Детские голоса начинают:
Усталость забыта,
Колышется чад,
И снова копыта,
Как сердце, звучат.
И нет нам покоя,
Гори, но живи!
Погоня, погоня,
Погоня, погоня
В горячей крови.
Звоню в третий раз и, наконец-то дозваниваюсь. Большак поднимает трубку, и я рассказываю о ситуации и прошу попытаться выяснить, куда направляют Трыню. Он и сам, впрочем, без моей просьбы говорит, кому будет звонить — адвокату, Ефиму и ещё каким-то людям. Я же собираюсь звонить Куренкову.
Может Печёнкина попробовать подтянуть? А что, пусть начинает пользу приносить. Да, точно, пусть постарается и докажет, что он мне нужен вообще, а то ношусь с ним, как с писаной торбой.
Я кладу руку на рычаг телефона, и тут же раздаётся звонок. Твою ж дивизию!
И нет нам покоя,
Гори, но живи!
Погоня, погоня,
Погоня, погоня
В горячей крови.
— Слушаю, — нетерпеливо отвечаю я.
— Егор!
В том, как сказано это «Егор», я чувствую настоящий ужас, рвущийся из трубки и липкий густой страх. Это Таня. Твою же, бл*дь, дивизию!
— Он тебя ударил?
Она ничего не может ответить из-за душащих слёз.
— Таня! Тихо! Успокойся! Слышишь меня⁈
Она затихает.
— Просто отвечай на мои вопросы! — приказываю я.