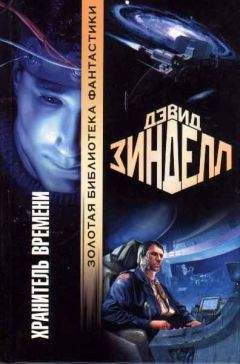Бардо достал из кармана золотые часы с двадцатью пятью бриллиантами, образчик запретной техники, широко распространившейся в Городе после кончины Хранителя Времени, и сделал Хануману знак подойти поближе. Отдав ему мнемонический шлем, Бардо сказал:
– До церемонии осталось меньше двух часов. У меня нет времени уговаривать Данло. Сделай милость, уговори его сам. – Данло он сказал, взъерошив ему волосы: – А если он не сумеет уломать тебя сделать то, что нужно, придется мне потолковать с тобой наедине. Понял? Вот и ладно. Ну, мне надо поставить динамики. Орден нас так прижимает, что приходится их прятать – или по крайней мере не выставлять напоказ.
Он слегка поклонился и выплыл из комнаты. Дверь за ним захлопнулась, и Данло с Хануманом остались одни.
Хануман протянул Данло мнемонический шлем. Он молчал, но глаза его спрашивали: «Неужели ты мне не доверяешь?» А может быть, и так: «Неужели Данло Дикий испугается компьютера?»
Данло, по правде сказать, в самом деле боялся компьютеров. Именно из-за этого страха и из-за своей дружбы с Хануманом он заставил себя взять шлем. Быстрым движением он надел его на себя и попытался как-то уложить волосы под ним.
Хромовые наушники давили ему на виски. Шлем сидел плохо: волосы, даже собранные назад, были слишком густыми и непослушными, чтобы обеспечить хороший контакт между нейросхемами и черепом. Хануман сказал, что это не важно и что шелковая подкладка мнемошлема генерирует более мощное поле, чем обычный шелк. Данло, крайне не любившего совать свой мозг в какое бы то ни было электрическое поле, сильное или слабое, эта информация не утешила. В этом процессе его беспокоило все. Обод шлема давил ему на затылок, пережимая мускулы и артерии и усугубляя головную боль. Позади глаз дергало так, что он почти ничего не видел, но он все-таки посмотрел на Ханумана и улыбнулся. Потом кивнул, закрыл глаза и стал ждать, когда компьютер наполнит его воспоминаниями.
Образы, когда они явились, почти ничем не отличались от других сюрреальных или виртуальных образов. Контакт с памятью, записанной Хануманом, походил на вхождение в библиотечные киберпространства, а еще больше на участие в фабулистической драме. Хануман при создании своей мнемонической программы действительно пользовался помощью как аниматора, так и мастер-фабулиста. Данло с изумлением наблюдал события из жизни своего отца. Он, как медуза, будто бы плавал в тропическом море и видел, как агатангиты разбирают поврежденный мозг Мэллори Рингесса нейрон за нейроном и переделывают Рингесса в человека, способного стать богом; он «слышал» беседы Рингесса и Бардо; он «шел» по холодному берегу под лай тюленей и слышал, как эти великие мужи рассуждают о программировании личности, об управлении биологической программой, ведущей к ярости, ненависти и в конечном счете к смерти. Вся жизнь Рингесса, какой ее видел Данло, была посвящена освобождению от бессмысленности смерти.
Сотворение себя – вот величайшее из искусств.
Шлем подал эти слова на внутреннее ухо, Данло удивился тому, как похож отцовский голос на его собственный – вернее, на тот, каким голос Данло может стать с годами: глубокий, звучный, нежный, страстный и страдающий. Ирония в нем позабавила Данло, а нота воли и судьбы вызвала в памяти далекие звезды и галактики, где происходили неведомые Данло чудеса и трагедии. Отец говорил о сострадании, и оно же звучало в его голосе; его благородная речь вдохновляла и ласкала слух. Данло обычно ценил удовольствие, как признак всего хорошего и благословенного, но этому удовольствию он не доверял, как мораше – непрочному снегу, прикрывающему невидимые трещины. Он слишком много знал о цефиках и о том. что они умеют. Слишком хорошо знал, как кибершаманы манипулируют мозгом при помощи компьютера. Вот и теперь, отвлекаясь от манящего образа отца и заглядывая в собственное сознание, он прямо-таки видел, как шлем манипулирует им. Это чувствовалось как эйфория, как струя эндорфинов, омывающая нейроны. В определенных моментах речи отца (и при каждом упоминании имени Рингесс) он испытывал симптомы наркотического опьянения. Шлем стимулировал выделение пептидов и других белков, типичных для определенных настроений. Стоя под металлической скорлупой, давящей на его позвоночный столб, Данло попеременно испытывал изумление, благоговение, любопытство и даже радость. Эта радость, к его удивлению, вызвала у него такой смех, что на глазах выступили слезы и он едва устоял на ногах. Затем мистический поток серотонина, быстрый и холодный, настроил его на более возвышенный лад, а норадреналин, вызвав чудесную ясность и сосредоточенность, позволил взглянуть на мир поновому и ускорил работу мысли.
Образ Бога присутствует изначально во всем человечестве.
Каждый обладает им во всей полноте и нераздельности – все общество в той же степени, как отдельный человек.
Данло внезапно ощутил, что способен понять нечто великое. Божественное. В вещах, которые ему предстояло понять и вспомнить, недостатка не было. Бардо с Хануманом записали великое множество слов, образов, древних цитат, музыки, виртуальных чудес. К этому они присовокупили изобретенную ими доктрину, объясняющую, как отдельный человек может стать богом, а остальные – последовать его путем. Данло следовало впитать эту информацию столь же легко, как сухой снег поглощает воду. Его мозг был прекрасно подготовлен для восприятия этой ложной памяти. Шлем и теперь массировал его нейроны, выкачивая из мозгового ствола еще больше норадреналина и прочих веществ, укрепляющих память. Но его память не нуждалась в подкреплении. Она от рождения служила ему так, что ему всегда было легче запомнить, чем забыть. Очищение памяти от чего бы то ни было, даже от такой мелочи, как расположение прыщей на лице Педара в ночь, когда тот разбился, всегда требовало от Данло величайшего усилия воли. (И применения определенной методики, которой обучил его Томас Ран.) Именно воля в сочетании с мнемоническими методами предохраняла его теперь от струящегося в мозг потока образов. Улыбаясь и крепко зажмурив глаза, Данло успешно противостоял мнемоническому шлему и не боялся попасть в расставленную Хануманом ловушку.
Человек – это канат, протянутый между зверем и богом, канат над бездонной пропастью.
Хануман был, конечно, не первый, кто пользовался техническими средствами для промывки мозга религиозными настроениями и догмами. Николос Дару Эде еще три тысячи лет назад выпустил первые четыре тома «Алгоритмов», и толкование Хануманом Старшей Эдды во многом копировало архитектуру этого монументального труда. Его «Эдда» была скомпонована еще более плотно, чем «Видения», «Повторения» или последующие тома «Алгоритмов». Данло обнаружил, что у человека, надевающего мнемонический шлем, свобода передвижения в пространстве записанной памяти весьма ограничена. В этом отношении процесс был прямо противоположен подключению к библиотечному компьютеру: там пользователь кружил в ослепительно красивых информационных штормах, среди кристаллических структур знания, в полной мере наслаждаясь фрактальностью, фугой и теми внезапными открытиями, которые библиотекари называют гештальтом. Данло не требовалось его чувство ши, чтобы находить дорогу среди образов, из которых Хануман составлял свои трансчеловеческие драмы, – дорогу для него проложили заранее. Ее запрограммировали и продолжали программировать в то самое время, пока он улыбался и потел под серебристым шлемом.
Ты совершил свой переход от червя к человеку, и в тебе еще немало осталось от червя. Что до обезьян, то в человеке до сих пор обезьяньего больше, чем в них самих.
Данло открыл глаза и отключился от мнемонического шлема. Сделать это было нелегко. Хануман стоял рядом с плотно сжатыми губами и невидящими глазами. Кибершапочка на его бритой голове светилась тысячами пурпурных жилок. Данло понял, что Хануман заранее отбирает то, что подает ему в мозг, и, весьма вероятно, редактирует эту память момент за моментом. Должно быть, программа, как для таких вот персональных сеансов, так и для массовых церемоний, приспосабливается под каждого пользователя, чтобы обеспечить ему индивидуальные «воспоминания». А составляет ее Хануман, или Бардо, или другие кибершаманы.
Вселенная – это машина для производства богов.
Воспоминания, которые пришли к Данло вслед за этим, несколько отличались и от Старшей Эдды, и от истинного воспоминания, которое он испытал. Это была память других людей, слова и картины, скомпонованные фабулистом. Всех этих людей Данло хорошо знал и узнавал отпечатки индивидуальных тревог и самообманов Бардо и Сурьи с той же легкостью, с которой распознал бы тигровые следы на снегу. Одну «Эдду», холодную, твердую и чистую, вспомнил явно Томас Ран. Красные и синие точки позади сомкнутых век Данло сложились в изображение живого организма, огромного и прекрасного, словно кит, но живущего очень высоко над морем; его кожа светилась золотом в черноте космоса. Затем появились математические формулы, показывающие, что для организмов, приспосабливающихся к новой окружающей среде, скорость энергетического обмена варьируется в зависимости от квадрата температуры.