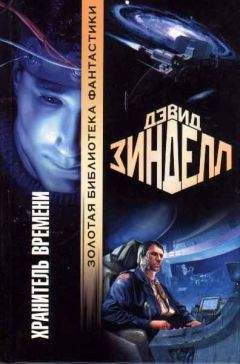– Любовь есть любовь. – Данло не хотел признаваться, что понимает обозначенную ею разницу.
– Странно, но Мать всегда предостерегала меня от влюблений. От любовного опьянения, как она говорила. Это все равно что упиться до бесчувствия: ты становишься слепой. Просто не хочешь видеть, что там у другого внутри. Лишь бы быть с ним рядом и вместе гореть.
Данло легонько обвел пальцем линию ее подбородка, сильно пострадавшего от мороза.
– Может быть, тебе тяжело это слышать… но я все еще пьян этим огнем.
– Я знаю.
– Пьян, но не слеп. У нас с тобой все было по-другому. Мы всегда видели друг друга.
– И сейчас я вижу того же человека, которого знала до болезни?
– Да. Я – все тот же я.
– Но я вижу тебя по-другому?
– Не знаю. Что ты видишь?
– Всего несколько мгновений назад в твоих глазах была ненависть. И отчаяние. Вряд ли я смогу выносить такое отчаяние, если буду рядом.
Он закрыл глаза, перебирая все трагедии, которые ему довелось пережить.
– В каждом из нас есть место для отчаяния.
– Наверно. Во мне точно есть. Поэтому мне так трудно видеть твое – оно у тебя такое безысходное.
Он снова хотел взять ее за руку, но она отступила, покачав головой.
– Прошу тебя! – сказал он.
– Мне страшно, пилот.
– Нет, не говори так.
– Я тебя боюсь.
Боль кольнула его над глазом, там, где у него всегда начинались головные боли – внезапно, как молния, раскалывающая небо над спящим городом. Прижав ладонь ко лбу, он понял, какой была третья последняя цель Ханумана, конечная точка, к которой сводились все его планы. Этой точкой был он, Данло Дикий. Хануман хотел преподнести ему самый драгоценный из даров: поделиться с ним частью своей души, заставить его прозреть, выжечь у него в мозгу незаживающую рану. Любовь, ненависть, извращенное сострадание – вот что руководило им, когда он уничтожал лучшую часть Тамариной памяти. Он совершил это страшное дело для того, чтобы Данло, как и он, воспринимал вселенную через страдание.
Хану, Хану. Нет.
Он поймал себя на том, что бормочет вслух «нет, нет; нет».
Ему хотелось коснуться пальцев Тамары, ее волос, ее темных глаз, налившихся слезами, но он не мог шевельнуться, как будто кто-то двинул его в солнечное сплетение клюшкой или локтем, вышибив из него дух. Он пошатнулся, выбросив вперед руку в поисках опоры. Рука нащупала чайный столик, и Данло оперся на него, опустив голову и пытаясь восстановить дыхание. Столешница вспыхнула ослепительным белым светом, заполнившим всю комнату. Тамара, ахнув, закрыла лицо руками и отвернулась. Данло, хмурясь, тоже заслонил глаза. Он чувствовал себя ребенком, брошенным на морском льду, потерявшимся мальчиком, который смотрит в бьющий ото льда свет, ища надежды на спасение. Потом он и вправду стал ребенком, и его взгляд устремился к бесконечно далекому горизонту. Ему было около двух лет, и он стоял один на кладбище выше пещеры. Он стоял на твердом хрустящем снегу совсем один, и это было странно, потому что вокруг собрались Хайдар, Чокло, Чандра и все остальное племя. В кругу, образованном ими, на носилках из китовой кости и белых шегшеевых шкур, лежало тело его любимого брата Арри. Ночью Арри умер от кишечной горячки и теперь лежал под ясным голубым небом голый и одинокий. Чандра помазала его пахучим тюленьим жиром, и все его коричневое тельце блестело, как полированное дерево. Арктические маки, красно-рыжие, как солнце, покрывали его голову, грудь и ноги.
Хайдар и все остальные молились за душу Арри, произнося слова, которые Данло не понимал. Окончив молитвы, Хайдар припал к Чокло, рыдая и говоря о том, как он любил своего старшего сына. Данло все это время стоял рядом, слушал и усваивал новое слово: анаса. Это слово обозначало любовь и страдание вместе, и Данло каким-то образом это понимал.
Сильнее всего мы любим то, с чем расстаемся, и разлука причиняет нам страдания. Когда пришел его черед положить огнецветы в волосы брата и попрощаться с ним, Данло упал на него и обхватил руками так, словно они опять боролись и Арри дал ему победить. Он был слишком мал и не мог понять, что когда-нибудь их с Арри души будут гулять вместе по ту сторону дня. Хайдару пришлось отрывать его от Арри. Было так холодно, что слезы замерзли бы прямо на глазах, будь те открыты. Но они были крепко зажмурены и горели, и он стоял над чайным столиком, не в силах выносить слепящий белый свет. Данло выпрямился и убрал руку со стола. Комната сразу поблекла. За окном по-прежнему летел снег. Мокрые глаза Тамары покраснели, и ее пробирала дрожь. В другое время он бы с легкостью утешил бы ее, но теперь она стояла, скрестив руки на груди, холодная и неподвижная, как ледяная статуя. Данло не мог прикоснуться к ней, хотя ему отчаянно хотелось запустить пальцы в ее волосы и поцеловать ее в лоб. Это было все, чего он хотел в этот момент.
Любить значит гореть, и пока влюбленные вместе, их соединяет сладчайшая во вселенной боль – анаса. Но когда они расстаются, эта боль превращается в муку. Хорошо, что хотя бы Тамара избавлена от нее. (Или просто ее не сознает.) Но его Хануман одарил огнем, и отныне он всегда будет гореть тоской по невозможному.
– Тамара, – сказал он, – того, что сейчас происходит, может и не быть.
Она села на свое место очень осторожно, чтобы не задеть стол, и попыталась улыбнуться.
– Что было, то было. Ты не можешь изменить прошлое.
– Но я могу вспоминать его.
– Возможно, было бы лучше, если бы ты мог забыть.
– Нет. Совсем наоборот.
Она, должно быть, уловила проблеск надежды в его глазах и спросила:
– Что ты имеешь в виду?
Может, ирония бытия в том, что каждому человеку хотя бы раз в жизни приходят в голову немыслимые вещи. Каждый из нас хотя бы раз делает то, что всегда считал невозможным.
Данло встал, прижимая к губам костяшки пальцев, весь во власти отчаянной мечты, и сказал:
– Может быть, существует способ восстановить твою память – ты не думала об этом?
– Нет. Не хочу тешить себя ложными надеждами.
– Я помню каждое слово, которое ты мне говорила, помню температуру твоего тела при каждом твоем прикосновении. Эту память можно перенести в компьютер, а потом впечатать ее тебе. Я знаю одну печатницу, которая помогла мне, когда я появился в Городе. Она и тебе поможет.
Тамара недоверчиво уставилась на него.
– Ты хочешь вставить свою память мне в мозг?
– Да, чтобы ты могла вспомнить.
– Ты так хорошо все помнишь?
Эти воспоминания пылали у него в мозгу багровыми рубинами.
– Томас Ран говорит, что у меня почти идеальная память.
– Возможно, она действительно идеальна – для тебя.
– Тамара, я…
– Если бы это ты потерял память, захотел бы ты восстановить ее таким путем?
– Н-не знаю. – По правде говоря, он не мог представить себе, что какие-то части его памяти могут исчезнуть. – Но что мы можем сделать еще?
– Нам ничего не нужно делать. Все, что ты помнишь, и то, как ты это помнишь, – это твоя память, а не моя.
Обогнув стол, он подошел к окну и стал царапать ногтем по замерзшему кларию – казалось бы, наугад. Лишь отойдя на шаг, он понял, что бессознательно изобразил на окне серебристую талло. А ведь Хануман, подумал он, мог и сохранить память, которую удалил из мозга Тамары. Это было больше чем ложная надежда. Разве стал бы Хануман выбрасывать нечто столь ценное? Возможно, он вложил память Тамары в Старшую Эдду и уж наверняка захотел бы узнать, какие секреты Тамара знает о Данло Диком. Хануман собирал знания и секреты, как некоторые любители, эгоистично, ради собственного удовольствия собирают произведения искусства; возможно, он пересматривает сцены, похищенные им из памяти Тамары, снова и снова, в уединении потайного виртуального пространства.
Он повернулся к Тамаре и спросил:
– Ну а если можно будет найти твою собственную память? И вставить ее обратно?
– Мою? Но ведь ее больше нет.
Данло не хотел пока говорить ей о Ханумане.
– Предположим – это просто такая игра – предположим, что Архитекторы правы и вселенная действительно компьютер, который записывает каждое событие в пространстве-времени. Что, если события твоей жизни можно достать из компьютера? Если Бог – в самом деле компьютер, способный хранить…
– Но разве такое возможно? – перебила она.
Это возможно, подумал он, потому что память обо всем заложена во всем. Но Тамара, не дожидаясь его ответа, улыбнулась самой себе и сказала:
– Нет, не могу я играть в такие игры.
– Но вся память…
– Пожалуйста, пилот, не надо.
Она встала, подошла к нему и взяла его руку в свои. Это явно далось ей нелегко, потому что руки ее дрожали, а глаза смотрели страдальчески и неуверенно. Но она, приняв, очевидно, какое-то решение, сжала его пальцы и сказала:
– О пилот, ты не понимаешь. Ты так добр, что пытаешься помочь мне – по-моему, я все еще люблю тебя за твою доброту. Но я не хочу больше, чтобы мне помогали вспоминать. Я не за этим звала тебя сегодня.