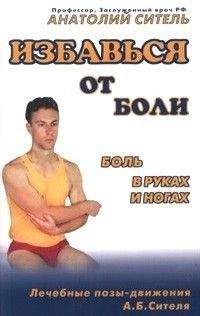В данный момент, в полвосьмого вечера в четверг, Берти временно пребывал на лестничной площадке шестнадцатого этажа, двумя этажами ниже квартиры Хольтов. Отца Милли не было дома, да и в любом случае в гости Берти не приглашали, вот он и сидел, отмораживал задницу и слушал, как кто-то орет на кого-то еще по поводу денег или секса (“Деньги или секс” было коронной строчкой в каком-то комедийном сериале, который Милли вечно ему воспроизводила. “Копни поглубже – и это всегда будут деньги или секс”. Блевотно.). Тем временем кто-то еще третий требовал, чтобы они заткнулись, а далеко и безостановочно, словно кружащий над парком самолет, убивали младенца. “Это любовь, – пело радио. – Это любовь. Осколки сердец. Без нее не жилец”. Хит номер три по всей стране. Целый день песенка крутилась у Берти в голове, всю неделю.
До Милли он никогда не верил, что любовь – сложнее там или ужаснее, чем просто сунь-вынь. Даже первые месяц-другой с Милли ни о чем, кроме обычного сунь-вынь, разве что со знаком качества, речь не шла. Но теперь любая дебильная песенка по радио, даже иногда рекламные ролики, казалось, рвут его в кусочки.
Песня вырубилась, вопли утихли, и Берти услышал снизу медленные шаги. Только б это была Милли. Шаги выбивали по ступеням характерную резкую медленную дробь женских туфелек на низком каблуке, и в горле его образовался ком – любви, страха, боли, чего угодно, но не счастья. Если это Милли, что он ей скажет? А если – не дай-то Бог – нет...
Он раскрыл учебник и притворился, что читает, вымазав страницу какой-то дрянью, в которую вляпался, когда пытался раскрыть люк мусоропровода. Он обтер ладони о штаны.
Это была не Милли. Какая-то старая дама с полной сумкой продуктов; остановилась на пролет ниже, облокотилась о перила и, выдохнув “уф”, поставила сумку на ступеньки. Из угла рта у нее торчала палочка оралина с призовым кнопарем – замысловатой мандалой, которая при каждом движении дамы беспорядочно вращалась, словно разладившиеся часы. Дама подняла взгляд на Берти; тот же мрачно пялился на репродукцию давидовской “Смерти Сократа” у себя в учебнике. Дряблые губы изобразили подобие улыбки.
– Учитесь? – поинтересовалась она.
– Угу, именно что. Учусь.
– Это хорошо. – Она извлекла изо рта, как термометр, бледно-зеленую оралинину и глянула, сколько осталось от стандартных десяти минут. Губы, не переставая улыбаться, поджались плотнее, будто бы дама замышляла некую шутку, приберегала напоследок, для пущей убойной силы. – Учиться, – в конце концов произнесла она (казалось, едва сдерживаясь, чтобы не прыснуть), – это полезно.
Снова включилось радио, с новым “фордовским” рекламным роликом, одним из любимых у Берти – таким легкомысленным и в то же время таким веским. Ну нет чтоб старая ведьма заткнулась, и так еле слышно.
– Теперь без образования никуда.
Берти ничего не ответил. Она решила попробовать иначе.
– Эти ступени, – произнесла она.
– Что ступени? – раздраженно поднял Берти взгляд от учебника.
– Что? Он еще спрашивает! Лифт не работает уже, наверно, месяц. Вот что. Месяц!
– Ну?
– Ну так почему бы лифт не починить? А попробуй только обратиться в жилконтору, чем все кончится? Ничем, вот чем.
Иди, шнурки от сапог прогладь – вот что ему хотелось ответить. Ишь, выступает – можно подумать, всю жизнь в кооперативе каком-нибудь прожила, а не в трущобах этих федеральных, вытатуированных у нее во все лицо. По словам Милли, во всем районе лифты не работали какой там месяц – годы.
С гримасой отвращения он сдвинулся к стене, освобождая старой даме проход. Та поднялась на три ступеньки, пока лица их не оказались вровень. От нее разило пивом, мятной жвачкой и старостью. Старух и стариков Берти терпеть не мог. Он терпеть не мог их морщинистые лица и сухую, холодную на ощупь плоть. Это из-за того, что так полно старух и стариков, Берти Лудд не мог жениться на девушке, которую любил, и завести свою семью. Несправедливо, черт побери.
– О чем читаете?
Берти опустил взгляд на репродукцию. Он прочел подпись, которой раньше не читал.
– Это Сократ, – произнес он, смутно припоминая что-то из прошлогоднего курса по истории цивилизации. – Это картина, – пояснил он. – Греческая картина.
– На художника учитесь? Или еще на кого?
– Еще на кого, – огрызнулся Берти.
– Вы ведь молодой человек Милли Хольт, так? – Берти не ответил. – Ждете, когда она вернется?
– Что, ждать уже запрещается?
Старая ведьма разоржалась прямо ему в лицо, и это было все равно, что сунуть нос в дохлую манду. Затем, ступенька за ступенькой, она одолела следующий пролет. Берти попытался не оборачиваться ей вслед, но у него не получилось. Глаза их встретились, и та снова принялась ржать. В конце концов он был вынужден спросить у нее, что такого смешного.
– Что, смеяться уже запрещается? – отпарировала она, и в ту же секунду смех обратился в хриплый кашель, ну прямо из минздравовского ролика о вреде табака. Уж не курящая ли она, мелькнула мысль у Берти. По возрасту вполне может быть. Отец Берти – уж лет на десять точно ее моложе – курил всегда, если только удавалось разжиться табаком. Берти считал это лишней тратой денег, отвратительной, но в меру. Милли же, с другой стороны, на дух не выносила курящих, особенно женщин.
Где-то со звоном разлетелось стекло, и где-то принялись палить друг в друга дети – “Бах! Ба-бах! Тра-та-та!” – и попадали с воплями, играя в партизанскую войну. Берти глянул в бездну лестничного колодца. Далеко внизу на перилах появилась чья-то рука, помедлила, исчезла, снова появилась, приближаясь. Пальцы казались тонкими (как у Милли), и вроде бы на ногтях блестел золотой лак. Трудно сказать, в потемках-то и с такой высоты. Внезапный прилив надежды (“Нет! Не может быть!”) заставил забыть старушечий хохот, вонь, вопли; лестничный колодец обратился в романтическую сцену, заволокся дымкой, все стало, как в замедленной съемке. Рука исчезла, помедлила, снова появилась на перилах.
Первый раз, когда пришел к Милли домой, он поднимался за ней по этим ступеням, глядя, как ходит перед глазами ее плотная маленькая попка, направо, налево, направо, и как дрожит и искрится жестяная кайма на шортах, словно вывеска винной лавки. Всю дорогу наверх Милли ни разу не оглянулась.
От одного только воспоминания у него тут же встало. Он расстегнул на ширинке молнию и вяло сунул руку в штаны, но опало прежде, чем он успел начать.
Он поглядел на свой наручный “таймекс” (гарантия – год). Восемь, минута в минуту. Он мог позволить себе ждать еще два часа. Потом, если не хочет полностью оплачивать проезд на метро, сорок минут тащиться до общаги на своих двоих. Если бы не испытательный срок из-за плохих оценок, он мог бы просидеть тут хоть всю ночь.
Он углубился в свою “Историю искусства”: в потемках стал изучать картинку с Сократом. В одной руке у того была большая чашка; другой он, сжав кулак и отставив средний палец, показывал кому-то “отдзынь”. Вовсе как-то не похоже было, чтоб он умирал. Завтра в два часа дня экзамен; середина семестра. Серьезно, надо подготовиться. Он стал еще сосредоточенней вглядываться в картинку. Зачем вообще люди рисуют картины? Он пялился до тех пор, пока у него не заболели глаза.
Младенец завелся по-новой, нацеливаясь на Централ-парк. По лестнице, непонятно лопоча, скатился отряд бирманских националистов; минутой позже – вторая кучка детей (американские герильерос, судя по черным маскам), матерясь во все горло.
По щекам его потекли слезы. Он был уверен – хоть и не позволял пока себе в этом признаться, – что Милли путается с кем-то еще. Он так ее любит, а она такая красивая. Последний раз, когда они виделись, она назвала его глупым.
– Иногда ты такой глупый, Берти Лудд, – сказала она, – что прямо тошно.
Но она такая красивая. И он ее любит.
Слеза капнула в чашу Сократа и впиталась в дешевую бумагу. Он осознал, что плачет. За всю свою сознательную жизнь он не плакал ни разу. Сердце его было разбито.
Не всегда Берти ходил такой пришибленный жизнью. Совсем наоборот – он был дружелюбен, как цветок, беспечен, не бухтел и вообще кайфовый чувак. Он не начинал заводиться при первом же знакомстве, а если заводок было не избежать, умел красиво проигрывать. Соревновательный фактор в КЗ-141 не особо поощрялся, а в центре, куда его перевели после родительского развода, и того меньше. Приятный, общительный парнишка тогда был Берти.
Потом летом, после школьных выпускных, как раз когда у них с Милли только-только все стало совсем серьезно, его вызвали в кабинет к мистеру Мэку, и у всей жизни вышибло дно. Мистер Мэк был поджар, лысоват, с небольшим брюшком и еврейским носом – хотя еврей он или нет, Берти мог только догадываться. Не считая носа, главное, что вызывало подозрения, это чувство, которое складывалось у Берти от всех бесед со своим куратором – такое же, как когда с евреями, – что мистер Мэк играется с ним; что безликая профессиональная доброжелательность того – не более чем маска, скрывающая безграничное презрение; что все его разумные советы – ловушка. Беда только, что по природе своей Берти просто не мог не втянуться в игру. В игру мистера Мэка, по его правилам.