В лифте она достает маленький пульверизатор и брызгает себе в горло.
– Во время работы мне не разрешают этим пользоваться, – говорит она. – Здесь слишком много обезболивающих и противовоспалительных, боятся нарушить чистоту эксперимента.
Откашлявшись, она добавляет:
– А кто я такая, чтобы спорить?
В башне ПСИ есть собственный ресторан, на восемнадцатом этаже. Мисс Чунь торжествующе оповещает меня, что в ее контракте оговорено бесплатное питание – в неограниченном количестве! Она вставляет свой пропуск в специальную щель, и на поверхности стола загорается иллюстрированное меню. Быстро сделав заказ, она удивленно смотрит на меня:
– А вы не будете есть?
– На дежурстве – нет.
Она недоверчиво смеется:
– Будете голодать двенадцать часов? Да бросьте! Ли Хинь Чунь ел на дежурстве, а вам что, нельзя?
Я пожимаю плечами:
– Полагаю, у нас с ним разные моды. Мод, управляющий моим обменом веществ, устроен так, что ему даже проще поддерживать оптимальный уровень сахара в крови, пока я ничего не ем.
– Что значит, «проще»?
– После еды уровень инсулина обычно повышается, от этого возникает такая, знаете, легкая сонливость. Мод может подавить и ее, но я больше полагаюсь на устойчивую конверсию гликогена.
Она качает головой, с улыбкой, но недоверчиво. Оглядев переполненный ресторан, где над каждым столом поднимается столб пара, бесшумно исчезающего в вентиляционных отверстиях на потолке, она говорит:
– Ну а эти запахи – они не пробуждают в вас хищные инстинкты?
– Связь в данный момент отключена.
– То есть у вас сейчас нет обоняния?
– Есть, но оно не связано с появлением аппетита. Все обычные сенсорные и биохимические сигналы не действуют – я физически не способен ощутить голод.
– Вот как. – Подъехавшая тележка-робот ловко выгружает на стол ее первое блюдо. Она берет порцию каких-то головоногих, быстро жует. – А это не опасно?
– Нисколько. Если запасы гликогена в моем организме упадут ниже определенного уровня, я получу сообщение об этом. И дальше решение будет зависеть от меня. По-моему, куда удобнее, чем неотвязные муки голода, которые могут отвлечь от чего-то более важного.
Она кивает:
– Получается, вы заставили свое тело обращаться с вами, как со взрослым. Отменили политику кнута и пряника – она хороша, чтобы добиться правильного поведения от животных, но у людей свои приоритеты. – Она снова кивает завистливо. – Я понимаю, эти очень соблазнительно. Но где граница?
– Какая граница?
– Граница между «вами» и «вашим телом».., между влечениями, которые вы считаете «своими» и такими, которые вы рассматриваете как навязанные извне. Действительно, зачем терпеть неприятные ощущения, когда хочется есть? Но тогда зачем отвлекаться на секс? Или поддаваться стремлению иметь детей? Зачем страдать от горя? От чувства вины? Сопереживать кому-то? Прислушиваться к обычной логике? Вы хотите сами себе установить жизненные приоритеты, но кто-то другой предпочтет иметь свои, естественные.
Она смотрит на меня язвительно, как бы ожидая, что я сейчас вскочу на стол и публично отрекусь на веки вечные от подавления аппетита, ибо предупрежден о тех ужасных последствиях, которые оно может иметь. У меня не хватает духа сказать ей, что ее предупреждения запоздали – по всем пунктам.
Я говорю:
– Все, что вы делаете, вас изменяет. Вы поели – и стали уже другим человеком. Вы не поели – и тоже стали другим человеком. Брызгание лекарством в горло делает вас другой. Какая разница, применять мод, чтобы отключить голод, или применять лекарство, чтобы отключить боль? Это одно и то же.
Она качает головой:
– Так можно все упростить до абсурда. Все имеет свои "крайние и умеренные формы, и вы всегда можете сказать, что это, в сущности, «одно и то же». Но нейронные моды и анальгин – не одно и то же. Потому что моды изменяют главные человеческие ценности...
– А пока не было модов, они не менялись?
– Медленно. И только по серьезным причинам.
– Иногда и по несерьезным. Или вообще без причин. Разве обыкновенный человек разрабатывает для себя во всех деталях некую этическую систему, а потом живет строго по ней, по ходу дела исправляя замеченные ошибки? Так не бывает. Большинство людей просто действуют, по обстановке, а их характер формируется вообще без их участия. Так почему они не имеют права себя изменить – если это сделает их счастливее?
– Но кто становится счастливее? Тот, кто прибег к моду, превращается в другого человека.
– Это старо. Изменение равно самоубийству.
– Что ж, может быть, так оно и есть. – Она неожиданно смеется. – Наверное, то, что я говорю, звучит жутко лицемерно. Если маленькая нравственная хирургия создает новую личность, то я, с моим единственным и неповторимым модом, вообще отношусь к другому биологическому виду...
Я быстро прерываю ее:
– Здесь вы не должны об этом говорить.
Она хмурится:
– Почему? Ведь это ресторан нашей фирмы, здесь только сотрудники ПСИ.
– В здании идет работа по двадцати трем проектам. У разных сотрудников допуск к разным проектам. Вы должны иметь это в виду.
– Я только сказала, что...
– Я знаю, что вы сказали. Я прошу прощения, но моя работа заключается и в обеспечении секретности.
Она, кажется, собирается не на шутку рассердиться, но затем говорит:
– Ну что ж, мне так даже удобнее.
– В каком смысле?
– Лучше я буду считать, что вы здесь для того, чтобы я не болтала лишнего, чем думать, что мне действительно необходим телохранитель.
***
Ее квартира находится в самой сердцевине здания. В ней нет окон (большой плюс с точки зрения безопасности), их заменяют голограммы реального времени с таким реалистичным изображением, что от настоящих окон не отличишь. Я быстро обыскиваю комнаты и убеждаюсь, что в них никто не прячется. Тщательный поиск микророботов занял бы неделю и обошелся бы в сотни тысяч долларов. О вирусах и наномашинах и говорить нечего.
Пожелав мисс Чунь спокойной ночи, я сижу в прихожей и наблюдаю за входом. Внутри тишина – наверное, она читает. Если в соседних квартирах что-то и происходит, изоляция гасит все звуки. Даже кондиционер работает бесшумно. Доносится только слабое жужжание каких-то насекомых – наверняка синтезированное. Из каких-то псевдопсихологических соображений его транслируют по всему зданию – чтобы мы могли в душе слиться с первозданной природой Арнемленда. Вроде бы беспорядочный шум, но на самом деле тщательно подобранный так, чтобы никого не раздражать. «Н3» отсекает его без всяких усилий. Я глубже погружаюсь в режим наблюдения. Часы идут за часами, а потом приходит Ли, чтобы сменить меня.
***
Речитатив Чунь По Квай вторгается в мои сны. Я приказываю «Боссу» отфильтровать его, но он все просачивается, меняя обличья. Беспорядочная телеграфия точек и тире пронизывает каждый звук, каждое движение, каждый ритм. Вот я, еще мальчишка, веду баскетбольный мяч по площадке, меняя руки – правая, левая, правая, правая, левая, правая, левая, правая, левая, левая, левая... Вот шахтный робот на складе (о нем вообще вспоминать запрещено), то выезжает из контейнера, то вкатывается обратно...
Отказывает «Н3», отказывает «Босс»... Может, у меня опухоль мозга? Я тестирую все моды, которые сидят у меня в черепе. Все докладывают, что полностью исправны.
Эксперимент продолжается, день за днем, без видимого прогресса. По Квай объявляет результаты так же спокойно, как раньше, но вне комнаты 619 ее обычная жизнерадостность начинает приобретать оттенок защитной реакции. Я быстро прихожу к выводу, что лучше не обсуждать с ней ход работы. Что касается Люнь, Лу и Цзе, для меня остается загадкой, что они думают, – они все время спорят друг с другом, говоря при этом по-английски, но на недоступном мне научном жаргоне. Не может быть и речи, чтобы поинтересоваться у них, как успехи, – для них я не более чем элемент охранной сигнализации, что-то вроде камеры на потолке, а ведь никому не приходит в голову держать ее в курсе дела. Это правильно. Так и должно быть.
Тем не менее однажды, придя вечером на дежурство, я оказываюсь в лифте вдвоем с доктором Лу. Он кивает мне и с заметной неловкостью спрашивает:
– Ну, как тебе нравится работа. Ник?
Я потрясен тем, что он, оказывается, знает мое имя:
– Все в порядке.
– Это хорошо. Я слышал, тебя завербовали.., не как других.
Я не отвечаю. Раз мне нельзя даже упоминать о МБР, то уж болтать о моде верности и о том, как его установили, – тем более.
Мы быстро доезжаем до шестого этажа. Прежде чем двери открываются, он тихо говорит:
– Меня тоже.
Он выходит первым, не оглядываясь, идет через проходную. Я молча иду в нескольких шагах позади него по коридору и почему-то чувствую себя заговорщиком.
«Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Вниз. Вниз. Вверх. Вверх. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вниз. Вверх».
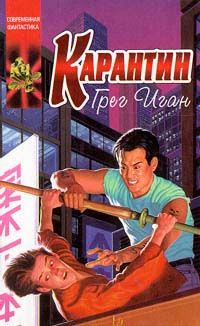


![Альфред Элтон Ван Вогт - Эрзац - вечность / Ersatz Eternal [= Вечный эрзац, Эрзац бессмертие, Эрзац вечности]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)
