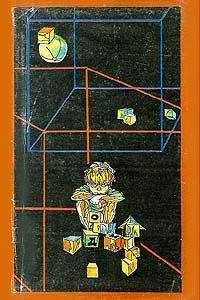С паническим вскриком Симагин выхватил пачку.
Перед мысленным взором Вербицкого медленно появилось мелькнувшее изображение: Ася, нагая, сидела на полотенце, и улыбалась смущенно и неярко. Мокрые волосы длинными острыми языками скатывались на грудь.
– Дай сюда, – с деланной непринужденностью протягивая руку, велел Вербицкий. Он был уверен, что Симагин отдаст. – От нее же не убудет.
– Нет-нет-нет-нет, да ты... ты-ты-ты что, – забормотал Симагин, заикаясь от волнения. Он спрятал фотографии за спину и даже отбежал. – Ты что! Вот черт... Да нет же!
– Ханжи вы, – опуская руку, равнодушно сказал Вербицкий. Сердце его колотилось.
Симагин удрал в другую комнату, и слышно было, как он лазает по каким-то ящикам, пряча фотографии подальше. Когда он вернулся, лицо и уши у него пылали по-прежнему.
– Ты только ей не говори, ладно?
– Да перестань. Только мне и разговору с твоей женой. Там что, вся пачка такая?
– Да нет... – Симагин с силой провел по лицу ладонью.
– Смотреть на тебя противно.
– Ладно... Вот что я лучше покажу! – он опять побежал в соседнюю комнату. – Смотри, какая бумага красивая!
Бумага была действительно хороша – тонкая, приятная на ощупь, со светло-зеленым узором в виде стилизованных веточек сосны.
– Это специальная бумага для дружеских писем, – проговорил Симагин. – Мол, дружба наша крепка и не теряет цвета, несмотря на зиму... Хочешь, я тебе на ней письмо напишу?
– Откуда у тебя?
Симагин взял у него листок и перевернул – там были иероглифы, небрежно и изящно написанные то ли очень тонкой кистью, то ли хорошим фломастером.
– Видишь, написано красиво: Такео Сиратори. Это их главный биоспектралист.
– Так ты что же, – со злобой спросил Вербицкий, – и по-самурайски наборзел?
– Да нет, – смутился Симагин, – по специальности чуток... Помню, первое письмо писал ему, так две фразы ухитрился иерошками. Ну, а потом по-английски, тут мне Аська первый друг. Она ж на европейских, как на родных, и Антона дрессирует вовсю... А Такео уязвился! В Касабланке подскочил потом и обращение по-нашенски исполнил...
– А как ты в Марокко-то попал?
– Чудом, признаться. Это отдельная эпопея... Собственно, там был первый наш международный конгресс. А второй через месяц в Москве будет.
– И как Касабланка?
– Как-как... – Симагин помрачнел. – Аська уж ругала меня за нее. Ни черта не видел. Бланка и есть бланка, все белое, сверк. Западные немцы тогда потрясающую методику вводили, мы из них вытрясли, что могли. Треп до посинения. Есть там такой мужик – фон Хюммель его фамилия. Ох, башка, доложу я тебе!
Эта болтовня уже прискучила Вербицкому. Вот чем оказывается на поверку мир, наполненный радостью бытия, – миром инфантилизма. Ася не возвращалась.
– А вот и мои! – вдруг вскрикнул Симагин и с просиявшим лицом кинулся к двери.
– Где?
– А на лестнице. Лифт громыхнул. По-Аськиному...
Вербицкий поджал губы – он ничего не слышал. Но Симагин уже распахнул входную дверь с криком: "Я вас учуял!", и голос женщины отвечал ему весело, и дверь лязгнула снова, и в коридоре зашептались. Помолодевшее сердце тревожно пропускало такты. Вдруг показался мальчик – вдвинулся неловко, прижался к косяку и серьезно уставился на Вербицкого своим невыносимо взрослым взглядом. Вербицкому стало не по себе.
– Здравствуйте, – сказал он.
– Здравствуйте, – ответил мальчик. – А вы будете про папу книжку писать?
В пятнадцати томах, мысленно ответил Вербицкий. Черт боднул его в бок.
– А кто твой папа?
Мальчик отлепился от косяка и посреди дверного проема принял что-то вроде боевой стойки.
– Папа Симагин – самый лучший папа в мире, – сказал он сдержанно. – Меня зовут, – добавил он затем и ушел, хотя его явно никто не звал.
Вербицкий перевел дух. В комнату вбежал Симагин, бормоча:
"Черт, я же пылесос не убрал..." Вербицкий молча смотрел, как он, спеша, упихивает пылесос в ящик, а ящик задвигает за диван.
– Аська мне выговор сделала, – сообщил он, распрямляясь. – В каком, говорит, виде гостей встречаешь...
– Правильно сделала, – кивнул Вербицкий.
– И ты считаешь так? – огорчился Симагин и убежал. Вербицкий снова остался один. Его тянуло в кухню, но он сдерживался из последних сил, ознобно чувствуя присутствие этой женщины за тонкой стеной. Как мальчишка, подумал Вербицкий. Странное дело – эта мысль показалась ему приятной.
– Мальчишки, ужинать! – раздался ее голос. Вербицкий осторожно прокашлялся, чтобы вдруг не перехватило горло, и пошел.
В узком коридоре он столкнулся с Симагиным, и вынужден был пустить его вперед, так как идти рядом не хватало места. Симагин шествовал в серых, очевидно, парадных брюках, светло-голубой рубашке и широком галстуке, который почему-то висел у него на спине. Подмигнув Вербицкому, он с серьезным видом проследовал на кухню. Раздался восторженный вопль. Вербицкий вошел – Антон прыгал вокруг Симагина, стараясь дотянуться до узла на симагинском загривке.
– Такова новая аглицкая мода, – чопорно сообщил Симагин. Ася щурилась от сдерживаемого смеха.
– А ну, прекрати сейчас же! – сказала она Антону. – Здравствуйте! – поспешно кивнула она Вербицкому. – Ты что это?
– Кес-кесе? – жеманясь, спросил Симагин. Изящнейшим балетным жестом он поддернул брючины, сел и, держа воображаемый лорнет у глаз, принялся лорнировать стол. – Где фрикасе?
– А ты есть не сможешь! – закричал Антон и стал драть с Симагина галстук. – У тебя горло веревкой передушится!
– Прочь с глаз моих! – воскликнула Ася. – Срамота! Взрослый академик, глава прекрасной семьи – хомута прилично навязать не может! – она схватила половник и грозно двинулась на Симагина. Тот вскочил, пискнув: "Консерваторы!" – и, опасливо подтягивая зад, порскнул из кухни.
– Весело вы живете, – сказал Вербицкий. Грызущий яблоко Антон закивал и проурчал с набитым ртом:
– Ага!
– Тебя кто приучил так разговаривать? – спросила Ася. – Проглоти, тогда разговаривай!
Антошка проглотил и вдруг заорал:
– Ага-а!
Вошел Симагин, уже без галстука. Глаза его искрились. Антон, закусив яблоко, показал Симагину два больших пальца.
– Салат покамест ешьте, – сказала Ася, тронув Симагина за локоть. – Мясо неудачное, никак не ужарю.
Симагин и Антон, будто бравые солдаты, захрустели салатом. Это получалось у них как-то на редкость задорно. Вербицкий подключился, глядя на Симагина исподлобья, едва умея скрыть ненависть. Даже поздороваться толком с нею не дал, идиот...
Салат был вкусный.
– Ты-то расскажи что-нибудь, – произнес Симагин с набитым ртом, и Антошка рыпнулся было сделать ему замечание – мол проглоти, потом разговаривай, – но всепонимающая Ася легонько обняла сына за плечи, и тот смолчал.
– Ну что я могу рассказать, – улыбнулся Вербицкий. – Я человек скучный, за рубеж не выезжаю...
Женщина стала оделять их едой, повеяло сытным, душистым запахом. Антошке – ласково, по-матерински, тут все ясно. Вербицкому – нейтрально, спокойно: ешь, мол, не жалко. Но Симагину... Эта ведьма даже картошку умудрялась положить так, что каждым движением кричала: я твоя. Мое тело – твое, моя душа – твоя, и вот эта моя картошка – тоже твоя... Вербицкий заговорил о новой повести, о муках творчества, о писательской Голгофе. Украдкой он взглядывал на Асю. Странно: язык сковало. Не рассказывалось. Самому было скучно слушать кислую тягомотину. Только с Сашенькой пикироваться да Ляпу утешать – вот что я могу... Она слушала. Прежней враждебности не было в ней, но это еще хуже. Безразличие. Вербицкий понял: она приветлива с ним из-за Симагина. Я его друг, вот и все, она приветлива, кормит, слушает, ждет, когда уйду. У Вербицкого перехватило-таки горло, картофель едва не пролетел в легкие. Он достал сигареты.
– Вы же все нуждаетесь... спички дай.
– Валер, прости, не дам, – сказал Симагин. – Антошка... и вообще. Не надо курить, ладно? Вот и Ася у меня уже завязала.
Вербицкий опять ощутил холодное напряжение злобы. Он поспешно спрятал сигареты и засмеялся:
– Это ты меня прости! Забыл! Правильно говорят: в чужой монастырь... Здорово потравил вас в тот вечер, да?
Симагин облегченно улыбнулся.
– Так вот. Вы же все, говорю я – все! – нуждаетесь в лечении. Но уверены, что здоровы. Ты вот возишься со своими спектрами и знать не хочешь, что готовишь гибель человечества...
– Валер, – укоризненно покачал головой Симагин, – послушать тебя, так только писатели не готовят гибель человечества.
– Звучит нахально, да? Но это так и есть. Всякая конкретная деятельность, кроме пользы, приносит и вред. Но человек, который в нее втянут, кормится от нее и продвигается по службе, слепнет. Ее успех есть его успех. Ее престиж есть его престиж. Она занят не миром, а его осколком. Поэтому нужен человек, не участвующий ни в чем. Не сторонник и не противник. У него и будет эта самая общечеловеческая позиция, понимаешь? Он разводит всех по их местам, одергивает всех, кто теряет меру... Поэтому, кстати, писателя бьют все.