– Все прекрасно, особенно если забыть о том, что нет выбора, – говорит она. – Тишина, покой и надежный кондиционер – это моя формула счастья.
Ее несмолкающий речитатив исчезает из моих снов. «Н3» работает отлично. «Карен» не возвращается. Окольными путями я выведываю у Ли Хинь Чуня, что у него установлены только «Страж», «Метадосье» и «Красная Сеть». Никаких проблем с модами, кроме как во время экспериментов, у него не было. Моя решимость докопаться до причин сбоев моих модов тает. Какой смысл идти к врачу или нейротехнику, если нет никаких симптомов? Тем более, что при этом посторонние лица могут узнать о моем моде верности. Я даю себе слово обратиться за помощью при первых признаках неисправности, но дни идут за днями, и я все больше утверждаюсь в мысли, что все наладилось само собой.
Я очень боялся, что подлинная деятельность Ансамбля окажется уж слишком приземленной, боялся, что мне будет мучительно трудно смириться с противоречием между моими возвышенными чувствами и грубой правдой – и, уж конечно, не смел даже надеяться на такое счастье, которое испытал, услышав рассказ По Квай. Теперь мне ужасно стыдно, что я мог всерьез подозревать Ансамбль в намерении грубо и примитивно эксплуатировать эскейперский дар Лауры, в то время как его цель – постижение глубочайших законов мироздания, самой сути реальности, сути человеческой природы. А также, быть может, и причин создания Пузыря.
Ну а если бы и подтвердились худшие предположения – что с того? Служение Ансамблю все равно осталось бы единственным смыслом моей жизни. Мне приходит в голову, что бояться разочарования и радоваться подтверждению лучших надежд в моем положении одинаково абсурдно. Допустим. И что дальше? Повертев эту мысль в голове, я вскоре забываю о ней.
В такой же тупик я захожу, вспоминая ночной разговор с По Квай. Предположим, она права, и жизнь на Земле губительна для всей остальной Вселенной. Предположим, что человечество есть своего рода космический некроз, лишающий мироздание многовариантности, постоянно ведущий истребление неведомых нам миров в непостижимых разумом масштабах. Ну и что отсюда следует? Эти ошеломляющие утверждения совершенно абстрактны, их легко понять, но ничего конкретного, осязаемого я не могу из них вывести. Возникает ощущение, что рассуждения По Квай – вроде тех математических фокусов, когда вам «доказывают», что единица равна нулю. Я начинаю искать замаскированные подвохи, и когда вечером я заступаю на дежурство, мы с По Квай продолжаем наш спор. Я говорю:
– Вы ведь сами признали, что эта теория геоцентрична до нелепости.
Она пожимает плечами:
– Да – в том случае, если утверждать, что мы были первыми. Но может быть, то же самое произошло на тысячах других планет и на миллиард лет раньше. Не думаю, что мы когда-нибудь узнаем, так это или нет. Но теперь, когда мы выявили тот аппарат в мозгу человека, который стягивает волновую функцию, геоцентризм заключается в том, чтобы утверждать, что любое существо, наделенное чувствами, где бы во Вселенной оно ни обитало, обладает точно таким же аппаратом в мозгу.
– Но я не уверен, что вы действительно выявили этот аппарат. Вы ведь не продемонстрировали, что не стягиваете волну, – вы показали только, что мод воздействует на явление прежде, чем волна стянется. А что, если верна старая теория и волна стягивается только при условии, что система достаточно велика? Допустим, что мод работает на масштабе, который чуть меньше критического, сжимаясь в последний момент, когда он проделывает свой трюк с интерференцией двух состояний?
– Допустим. А что же тогда происходит в тех участках мозга, которые мод отключает?
– Не знаю. Но если эти участки специально созданы для воздействия на квантовые процессы, может быть, они частично реализуют и функции той части мода, которая управляет чистыми состояниями? Возможно, эволюция дала нам средство немного подправлять вероятности – согласитесь, что такая способность была бы полезна в борьбе за выживание. И если волновая функция достаточно большой системы всегда, с самого рождения Вселенной, стягивалась случайным образом, то вся наша вина состоит в том, что у нас начала вырабатываться способность влиять на этот процесс.
Она слушает с интересом, но стоит на своем:
– Видите ли, если я не включаю первую часть мода – ту, которая блокирует некие естественные связи в мозгу, – весь эффект пропадает, и ионы разлетаются как попало. Это мы проверили на следующее же утро после нашего первого успеха. Согласна, вы можете сказать, что эти естественные связи не стягивают волну, а просто мешают моду управлять чистыми состояниями. Но я думаю, что если бы у людей была природная способность «подправлять вероятности», ее бы уже давно заметили. Впрочем, можно придумать много разных объяснений нашему эксперименту, но что вы скажете насчет Пузыря?
– Вот уж где версий хватает. Я слышал не меньше тысячи за последние тридцать лет.
– А сколько из них вы считаете разумными?
– Честно говоря, ни одной. Но и ваша ничем не лучше. Допустим, создатели Пузыря гибнут под действием наших наблюдений. Как же им в таком случае все-таки удалось выжить? Помните, на какое расстояние заглядывали самые мощные телескопы? Миллиарды световых лет!
– Верно, но мы не знаем, какие повреждения – или, если угодно, сколь детальное наблюдение – способны выдержать предполагаемые жители других миров. В то время, когда во Вселенной еще ничто не схлопнулось, могли существовать формы жизни, полностью зависящие от всего спектра возможных состояний. Каждый индивидуум включал в себя почти весь этот спектр, в том числе множество состояний, которые мы бы назвали взаимоисключающими. Представьте, что от вашего тела остался только тончайший срез – вот чем для них было схлопывание!
– А создатели Пузыря были с самого начала очень тонкими, потому и уцелели?
– Именно так! Им требовался совсем небольшой диапазон состояний. Может быть, с их точки зрения это выглядело так, как если бы глубокий океан стал вдруг мелеть. Мы наблюдали галактики в миллиардах световых лет от Земли, но даже в Солнечной системе мы еще не схлопнули все, вплоть до последней крупинки метеорной пыли. А у планетных систем далеких звезд оставалось еще очень много степеней свободы. Возможно, что индивидуум из тех, кто создал Пузырь, способен выдержать практически любое наблюдение, за исключением лишь встречи с человеком лицом к лицу. И вот когда наша астрономия начала становиться все точнее, их волновая функция стала быстро худеть, и создание Пузыря было для них единственной возможностью спасти свою цивилизацию.
– Ну, не знаю...
Она смеется:
– Я тоже не знаю. И весь смысл Пузыря в том, чтобы мы никогда этого не узнали. Впрочем, если вам не нравится эта теория, у меня есть другие. Например, что создатели Пузыря состоят из темной холодной материи – из аксионов или других слабовзаимодействующих частиц, которые нам всегда было трудно обнаружить. В этом случае мы могли задеть их совсем чуть-чуть, но они пришли к выводу, что наша технология быстро прогрессирует и скоро станет для них опасной. В двадцатых и начале тридцатых многие астрономы занимались поиском темной холодной материи, чувствительность их приборов мало-помалу росла – может быть, из-за них все и случилось...
Итак, абстракции в сторону. Когда я проталкиваюсь сквозь уличную толпу, мысль о том, что благодаря этим людям город не расплывается туманом бесчисленных всевозможностей, не кажется абсурдной – просто она о другом. Реальность упрямо остается прежней, какие бы парадоксальные теории ее ни объясняли. Когда Резерфорд открыл, что атомы практически полностью состоят из пустоты, земля не стала менее твердой. Истина как таковая не меняет ничего.
Не имеет значения, верна ли теория По Квай. Важно только одно – Ансамбль занимается наукой о Пузыре. А значит, бесчисленные посты, телохранители, приставленные к добровольцам, хранят не коммерческую тайну.
Потому что враг у Ансамбля один – Дети Бездны.
***
При стуке в дверь «Босс» мягко будит меня. Голова патентованно ясная, но бешенство закипает мгновенно – ведь я спал каких-нибудь два часа! Я смотрю по ГВ, кто стоит за дверью. Оказывается, пришел доктор Лу. Ничего не понимая, я быстро одеваюсь. Если бы меня хотели срочно вызвать на службу, Тонг или Ли просто позвонили бы.
Я приглашаю его войти. Он осматривает комнату с таким видом, будто никогда не представлял, что можно жить так убого – а теперь, когда он в этом убедился, он выражает мне свое глубокое соболезнование. Я предлагаю ему чай, но он энергично отказывается. Мы обмениваемся ничего не значащими любезностями, потом наступает неловкая тишина. Долгие полминуты он мучительно улыбается, потом наконец говорит:
– Я живу для Ансамбля, Ник.
Не могу понять, чего больше в его словах – воодушевления или самоуничижения.
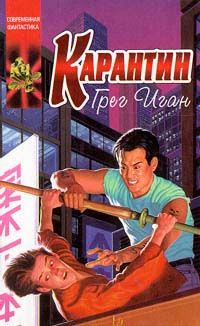


![Альфред Элтон Ван Вогт - Эрзац - вечность / Ersatz Eternal [= Вечный эрзац, Эрзац бессмертие, Эрзац вечности]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)
