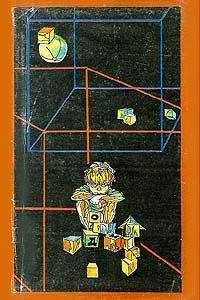– Нас она кормит, а себя что, что ли, не сможет?
– Да ведь это другое дело. Других кормить приятно, а себя – скучно. Детеныш ты, Антон.
– Нет, – возразил Антошка, – я взрослый.
– Это почему?
– А все говорят. Совсем большой и не по годам развитый.
– Ты им не верь, – твердо сказал Симагин. – Ты сам подумай: разве настоящему взрослому так скажут?
Антон призадумался. Потом нерешительно проговорил:
– Нет, наверное...
– У тебя есть еще время взрослеть, и я тебе в этом даже завидую, Тошка. Тяжело работать, как взрослый, когда еще не вполне взрослый. Взрослость измеряется силой человека, а сила измеряется тем, скольким людям человек может помочь.
– Да-а? – удивился Антон. – А я думал – сила это когда... ну... и драться тоже...
– Это совсем другая сила. Она измеряется в лошадиных силах – помнишь, я рассказывал? Она тоже нужна, правильно. Но сейчас я не про лошадиную силу, а про человеческую. Чем человек слабее, тем меньше умеет помогать. Он хороший, не злой – но не умеет. Например, друг ногу сломал, а тот стоит рядом и: говорит:
"Ах, как я тебе сочувствую, ах, как тебе больно, ах, да кто же нам теперь поможет?.."
– Это только старые бабушки так говорят, – обиделся Антон. – Надо не болтать, а наложить шину.
– Ну, и как ее накладывать?
Антон насупился, а после паузы сказал с просветлением:
– А хорошо быть врачом. Приходит больной, мучается – а ты что-то такое сделал, и он уже здоровый. Засмеялся и побежал на работу. Здорово, правда?
– Правда, – сказал Симагин.
– Я буду врач, – сообщил Антошка. – А ты почему не врач?
– А я врач. Я самое лучшее лекарство изобретаю.
– А когда ты его изобретешь?
– Не знаю, Антон. Это трудно.
– Ты его изобретай скорей. Девочка Лиза из нашего класса очень часто простуживает гланды и заднюю стенку, а когда ее нет, мне скучно и даже уроки хуже учатся.
– Извини, Антон, но ко второму классу я не поспею, – улыбаясь, сказал Симагин. – Однако ты не думай, я стараюсь.
– Да уж я знаю, – важно поверил ему Антон. – Уж ты работаешь. Вовка меня и то спрашивает: твой папа всегда с вами живет или не всегда? – ехидновато-приторным голоском Виктории передразнил он. – Его папа всегда приходит с работы в семь, садится к телевизору и больше никуда уже не девается до следующей работы, – Антон подпрыгнул, меняя шаг, чтобы пристроиться с Симагиным в ногу, – А мама почему не врач?
– Она тоже врач, – не задумываясь, сказал Симагин. – Помнишь, я часто прихожу усталый, грустный... А она меня сразу вылечивает.
– А еще помню, как мы с мамой пошли в кино без тебя, и она только и смотрела кругом, и у нее все время делалось такое лицо, как когда ты приходишь. И сразу пропадало. А ты был дома грустный, а когда мы пришли, сразу вылечился.
У Симагина стало горячо в горле.
– Ну, вот, – проговорил он мягко. – Ты же все понимаешь. Плохое настроение – это болезнь. Опасная и заразная.
– Да-а? – Антон задрал голову, заглядывая Симагину в лицо пытаясь сообразить, не шутит ли он. Сразу споткнулся, конечно.
– Да-а! – в тон ему ответил Симагин, и Антон заулыбался. – Мама и на работе всех вылечивает, кто грустный и нервный, я видел. Только меня ей лечить приятнее, поэтому она всегда со мной.
– А тебе ее лечить приятнее, поэтому ты всегда с ней, – заключил Антошка.
Интересно, что он думает сейчас, прикидывал Симагин, глядя сверху на темную Антонову макушку. Сколько из того, что сейчас сказано, отложится там? И даже не сколько, а – как? Совершенно не могу представить. Он думал так, а разговор катился: как лечат друг друга мама и папа, как лечат друг друга знакомые, как лечит друга друг... и что это – друг...
– Представь, что вы где-то делаете революцию. И министр обороны старого правительства вроде бы человек хороший и прогрессивный. Может, даже вас поддержит. А может, и нет. Может, он специально притворяется, чтобы войти к вам в доверие, все выяснить и предать. И вот ты ему веришь и считаешь, что надо все рассказать, – тогда он вас поддержит армией. А твой лучший друг не верит, он считает, что министр вас обманывает.
– Какой же он друг, если по-моему не считает? – обиделся Антошка.
– Твой самый лучший. Вы с ним вместе выросли, вместе сидели в тюрьме у старого правительства, вместе бежали. Он тебя спас от смерти, потом ты его спас от смерти. А теперь ты говоришь, что он погубит дело, а он говорит – что ты. Как быть?
– Собрать большое собрание и проголосовать, – со знанием дела, уверенно ответил Антошка. Симагин даже опешил на миг.
– Нельзя, – сказал он затем. – Нельзя об этом говорить всем. Вдруг есть какой-нибудь ме-елкий предатель. Тогда он погубит министра. А если министр станет вам товарищем? Как же можно будущим товарищем рисковать? А во-вторых, кто будет на собрании? Деревенские повстанцы, в основном. С министром они не знакомы. Разве можно заставлять их решать? Решать тем, кто знает.
– Так а что же делать-то? – нетерпеливо спросил Антошка.
– А ты как думаешь?
– Не знаю, – произнес Антон после долгого размышления.
– Вот понимаешь? Кроме вас двоих – в общем, некому решать. И ты говоришь одно, а твой лучший друг – другое. А если вы поступите неправильно, могут погибнуть все революционеры. И вы сами. Оба, понимаешь? И тот, кто ошибался, и тот, кто был прав.
– Да как же быть-то, папа?! – Антон был в отчаянии.
– Никто не знает, – ответил Симагин. – Это называется – неразрешимый вопрос. Сколько бы их ни было – всегда приходится заново мучиться. И помочь никто не может. И никогда не знаешь, прав ты или нет. А действовать надо. И отвечать, если ошибся. И хоть как-то спасать тех, кто из-за твоей ошибки пострадал. Это часто бывает, и всегда очень больно.
– А вот... пап, а пап! А вот есть такая работа, чтоб все время думать над неразрешимыми вопросами?
– Есть. Писатель.
Этого Антошка явно не ожидал.
– Как дядя Валерий? – разочарованно спросил он, с недоверием оттопырив нижнюю губу.
– Да, – твердо ответил Симагин.
Они уже входили в химчистку, когда Антошка сообщил:
– Я буду писатель.
В химчистке было душно и тесно, резко пахло химикалиями. Очередь тянула эдак часа на полтора. Работали пять барабанов из восьми, два подтекали – по металлу, покрытому облупившейся синей краской, от круглых люков тянулись вниз ржавые полосы, а на полу, прислоненные к этим полосам, кренились старые погнутые ведра со смутно уцелевшими надписями: на одном "Для пищевых отходов", на другом – вообще "Компот". Героическая приемщица – красная от жары, задыхающаяся, оглохшая и обалдевшая от постоянного шума агрегатов – стойко, но нервно делала свое дело, и Симагину даже подумать было страшно, что ее рабочий день еще только начинается. Как всегда в таких случаях, ему хотелось подойти и сказать: "Давайте я за вас постою, идите погуляйте часок..." На улице очередь тоже была – внутри в основном старушки, снаружи в основном мужчины, которые группировались на солнышке вокруг пивного ларька и, как слышал, проходя, Симагин, с большим знанием дела обсуждали перспективы предстоящей встречи в верхах. Они сдували пену, похохатывали, хлопали друг друга по плечам и спинам, и никуда не торопились, но время от времени откомандировывали кого-нибудь из своих проверить, как идут дела и не пролез ли кто без очереди. Антон, едва войдя, подобрался и стал принюхиваться – он был здесь впервые. Он так и впился взглядом в круглые иллюминаторы машин – ему, вероятно, уже мерещилось, что там вращается по меньшей мере терпящая катастрофу Метагалактика. Или, наоборот, самая лучшая наша подлодка попала в повышенные тур-бу... пап, я помню, молчи!.. ленции и нужно срочно принять решение, которое всех спасет. Симагин дал Антошке насладиться, ответил подошедшей женщине, что он – последний, а потом осторожно потянул сына за плечо.
– Пошли в уголок. Оттуда видно.
– Пошли.
Они начали ждать, и разговор из-за шума как-то сам собой прервался. И сразу мысли Симагина стали сползать на методику выявления. Похоже, ничего не оставалось, как расписывать всю спектрограмму, и там, где аппарат не срабатывает и роспись не удается, предполагалось наличие латентной точки – метод, совершенно фантастический по трудоемкости и длительности. Симагин не мог с этим смириться. Еще вчера он подумал, что неверен сам подход. Они еще очень смутно представляли себе природу латентных точек. Они оперировали спектрограммой, будто она была конечной реальностью, а не ограниченным отражением далеко еще не понятных процессов. Тут следовало разобраться. Точки. Что в них? Резонанс есть всплеск затаенных возможностей, энергетическая буря. В обычном состоянии эти возможности никак не заявлены. Спектрограмма фиксирует любой идущий реально процесс, от зубрежки стихов до час назад подцепленного СПИДа. Можно ли момент ожидания считать реально идущим процессом? А что это – момент ожидания? Назвали – и как будто уже понимаем. Ожидания чего, собственно? Какие свойства возбуждает резонансная накачка? Да-да, именно, попробуем с обратного конца – какие качественно иные состояния организма нам известны? У Симагина среди духоты вдруг мурашки забегали по спине – дрожь озарения легонько коснулась кожи и отступила, потом коснулась вновь. Черт, тут могут таиться самые неожиданные сюрпризы, вроде способностей к чтению пальцами и тэ дэ, если они вообще существуют...