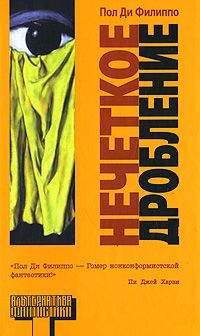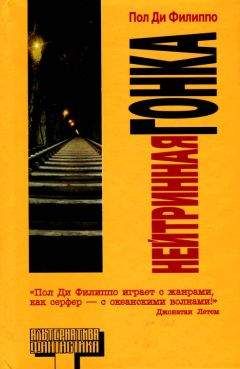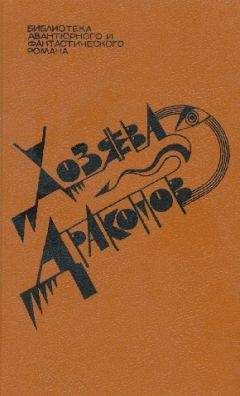После чего продавщица газет, клевая молодая цыпка, подняла на меня глаза от своего комикса «Зап» и пронзительно заверещала!
Забавно, что именно замечаешь в моменты опасности. Самые мелкие, малосвязанные с происходящим детали приобретают крайнюю отчетливость.
Например: продавщица заверещала, и я заметил на обложке ее комикса «Зап» заголовок: «Выпуск пятисотый!!! Легендарные мохнатые братья встречаются с удивительным свиномордом!!!» Я также заметил, что обложка помята и краски на ней расплылись, и весь журнал выглядит так, словно его напечатали на бумаге, сделанной из серой муки.
Наконец непрерывные вопли девушки привлекли к ней мое внимание, заставив оторваться от комикса.
Я нервно улыбнулся и пальцами неизмененной руки изобразил знак мира. Немного неточно и неуверенно, но вообще-то последний раз я показывал такое лет двадцать назад.
– Э-э-э, что за дела, сестренка? Могу я, э-э-э, «вписаться в картинку»?
Звуки, которые она исторгала, стали осмысленными:
– Шпик, шпик! Помогите! Помогите! Кто-нибудь, позовите Ангелов!
Оглянувшись через плечо, я заметил, что многие стоящие и вялоидущие вышли из своего удолбанного ступора и теперь смотрят на меня и на газетный ларек, и занервничал. Может, лучше покинуть этот континуум, пока события не зашли слишком далеко? На что решиться? Пусть все началось с криков, но здесь у меня были шансы почувствовать себя счастливым. Дома у меня такой возможности не было.
Так я стоял и колебался.
Кальвинии воспользовались паузой, чтобы вмешаться в мои сомнения. Я удивился, что слышу их, ведь я снял йо-йо, но предположил, что контакт йо-йо с телом позволяет им вести разговор в моей голове.
– Почему эта женская особь твоего вида кричит?
– Это часть брачного ритуала?
– Это тебя привлекает?
– Когда мы будем трахаться?
– Ох, можешь заткнуться? – крикнул я, по привычке обращаясь к кальвиниям вслух.
Но девчонка-продавщица подумала, что я обращаюсь к ней, и мигом ударилась в истерику.
– О господи, он совершил вербальное насилие! Принародно!
И она хлопнулась в обморок.
А меня схватил сзади за руки кто-то здоровенный, и грубый голос прорычал:
– Приятель, ты по уши в дерьме!
Лапа величиной с окорок пребольно стиснула мне плечо и развернула. Я обнаружил, что нахожусь в центре огромной толпы, а мой противник не кто иной, как здоровенный детина байкерского вида. Этакий бородатый медведь, с пивным брюхом, в засаленной коже; из заляпанной моторным маслом и жутко грязной драной майки рвутся черные курчавые волосы, лопнувшие вены на отвисшей коже отмечают пути по различным соседним районам, от трущоб до гетто, нос лишь наполовину возведен заново, потом, видимо, кончились деньги. На голове у него красовалась плоская байкерская кепка, на околыше которой вышито курсивом: «КРОШКА».
Не успел я закончить осмотр задержавшего меня, как голос из толпы проорал:
– Гляди! У него в кармане! Это ж Хорек!
Пипл отпрянул, начал тыкать в меня пальцами и орать. Некоторые прикрывали руками лица, словно отгораживаясь от чего-то ужасного. Несколько придурков выставили вперед кожаные медальоны с символом мира, тем жестом, каким люди Средиземноморья выставляют два пальца – рожки от сглаза.
Я взглянул себе на грудь.
Из кармана моей рубашки лыбилась голова Никсона, украшающая пец-конфетницу.
Я сообразил, что в этом континууме исторический типаж Никсона представляет собою олицетворение гада, противоположного образу Спасителю человечества, которым он был во временной линии Ганса.
Проклятие на головы чертовых киберметелок!
Даже устрашающая громадина Крошка и тот содрогнулся, заметив у меня в кармане поганую образину.
– Ох, чувак, ты чо, хочешь, чтоб тебя линчевали? Как ты собирался маскироваться, если у тебя из карманов торчит такое?
– Я не маскируюсь! Я не шпик! Честно!
– Тогда кто ты?
Хороший вопрос.
– Я... гость...
– Откуда?
Уже лучше. Может быть, правда впечатлит их настолько, что они согласятся поверить моим словам и проникнутся сочувствием?
Выпрямив спину, я смело объявил:
– Я явился из иного измерения, с дружбой и добрыми намерениями, надеясь разделить совершенство и мудрость вашего мира.
Казалось, мое заявление произвело должное впечатление на толпу. Послышалось одобрительное бормотание, обсуждение, несколько подытоживающих реплик вроде: «Круто!», «Классно залепил!»
Крошка обрабатывал поступившую информацию с усилием и скоростью, типичной для одного из первых ламповых компьютеров. Потом он изрек:
– Может, это и правда. Но я не могу позволить тебе шляться по округе и будоражить народ, и потом, тебя могут просто прибить. К тому же ты и правда произвел вербальное насилие над этой куколкой. Так что придется тебя забрать, пусть с тобой разберется Суд Народной Солидарности. А пока давай-ка уберем с глаз долой эту мерзость.
Выхватив из моего кармана конфетницу, которая почти исчезла в его здоровенном кулачище, Крошка потащил меня через толпу, которая послушно расступалась перед ним.
– Это начало сексуального акта?
– Боже, надеюсь, что нет, – ответил я, плюнув на то, что меня еще кто-то слышит.
С заднего сиденья потрепанного «харлея» тюрьма казалась такой же, как все тюрьмы. За исключением одного: когда я вошел внутрь, то очутился в гораздо более обшарпанной кутузке, чем обычно бывает за границами Миссисипи. Тут не только плиточный пол был щербатым, а кое-где грязным до чрезвычайности, и лупилась краска на стенах, но и двери были сорваны с петель, в окнах недоставало рам и стекол, а вода, подтекающая из труб, оставила на потолке пятна цвета отчаяния.
Пока меня записывал в книгу еще один Ангел ада, сидящий за трехногим столом, недостающую ножку которому заменяла стопка книг, я не сдержался и спросил, уповая, что удачно подделываюсь под местный сленг:
– Че за убогая дыра, чувак? Даже у гослегавья псарни получше.
Ангел ада за столом вроде как растерялся, и Крошка поспешил ему на выручку.
– Знаешь, приятель, нам очень немного удается высосать из общественной сиськи. Есть разные штуки поважнее, на что нужно тратить общественные бабки, – верно, парни? Кроме того, сегодня творится не так уж много всякой антисоциальщины, так что нам ни к чему держать много всяких темниц и зон, как это бывает у всяких фашистов. Конституционные концентрационные казематы, которых в АмериКККе прежде было много, мы сровняли с землей.
По тому, с каким видом это был сказано, я понял, что такова сегодняшняя политика партии, и спорить не стал.
Но когда Ангел обхлопал мои карманы и в конце концов вытащил на свет божий йо-йо, я решил бороться.
– Эй, стой-ка! Отдай! В этом нет никакой опасности! А мне эта штука нужна.
Я сумел высвободить левую руку и дотянуться до йо-йо.
Раздался слабый голос Калипсо:
– Пол, что происходит...
Потом меня снова скрутили, а Ангелы принялись разглядывать йо-йо. У меня перехватило дыхание, когда они несколько раз попробовали запустить его, но ничего особенного не случилось. Йо-йо слушался только меня одного, как обещал Ганс.
Тем временем Тони расчухал, что моя левая рука выглядит необычно, и принялся рассматривать ее подвергшуюся метаморфозе поверхность.
– Круто, – подытожил он наконец. – Очень полезно в драке, приятель. Ладно, Дурной Палец, пошли, пора тебе бай-бай.
Я был до того потрясен и сражен утратой йо-йо, что даже не протестовал против присвоенной мне дурацкой клички. Я позволил отвести себя вниз по плесневелой лестнице и дальше по облупленному коридору в камеру.
Тони втолкнул меня в узилище, и двери за мной захлопнулись.
Я огляделся и обнаружил спартанскую обстановку. На одной из коек сидел мой сокамерник.
Наверно, голова у меня не слишком хорошо варила после всего, что произошло, поскольку иначе меня наверняка бы потряс пол моего сокамерника. Тощая, как скелет, в бесформенных джинсах, в свободной вышитой крестьянской мексиканской рубашке и сандалиях, с тухлым, словно стоялая вода в луже, выражением лица, обрамленного прямыми, непонятного оттенка волосами. Вялая, с глазами цвета табачного сока, моя соседка была из тех безобидных невзрачных и бессмысленных персонажей, которым на роду написано не знать иной любви, кроме материнской.
– Э-э-э, привет, – вежливо произнес я. – Я – Пол.
Когда она заговорила, я был приятно поражен глубиной и прелестью ее голоса. Это была удачная компенсация за невзрачную внешность.
– А я – Мунчайлд.
Я протянул руку. Она тоже. Кисть была вялой, словно дохлая рыба.