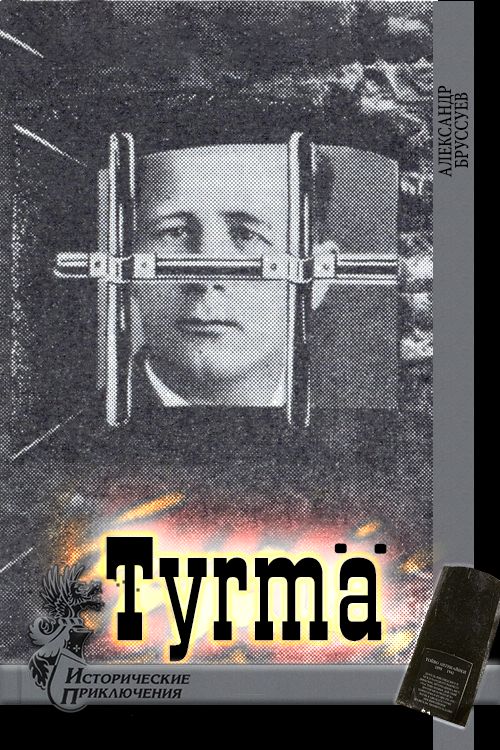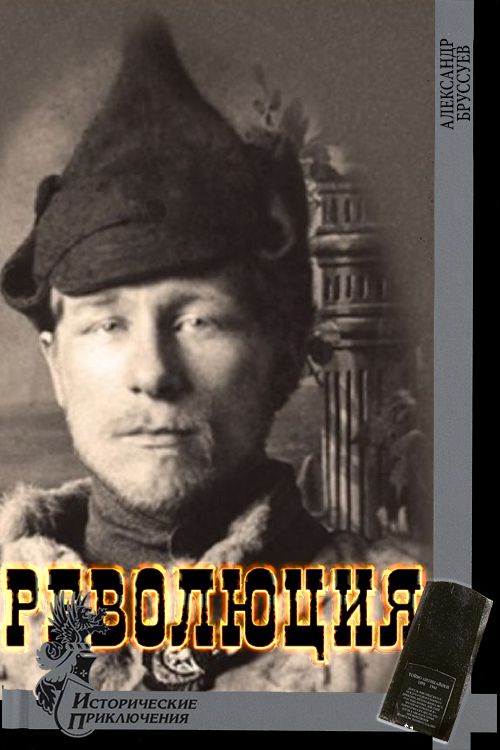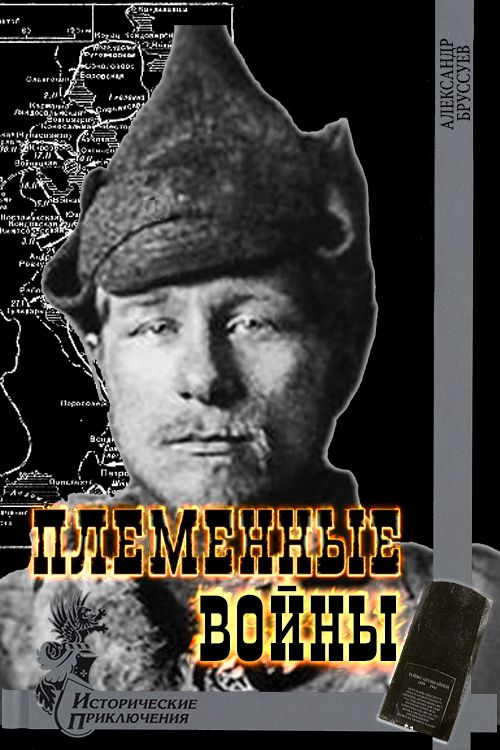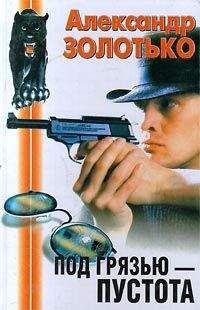думать, но думы, как уже не раз бывало, путались.
Стены кельи расширялись, сводчатый потолок уплывал куда-то вверх, жесткое ложе под ним делалось неощутимым. Вокруг образовывалась самая пустая пустота. И вроде бы рядом кто-то есть, но вместе с этим уверенность, что никого нет, была уверенной. И настолько уверенной, что легко можно было уверовать: люди есть — их не может не быть, те же Игги и Мика — но они за гранью пустоты, а потому недосягаемы и невоспринимаемы.
Так же, как и Ховра Тойвута, которая как-то сказала: «Соловки, блин, принадлежат мне. И я их буду доить, как свои морские промысловые угодья». Умерла эта Тойвута в тысяче четыреста каком-то году. Но послужила прообразом злобной старухи Лоухи — такая же жадная, если не сказать больше — алчная. Карелка, блин, а стало быть — колдунья. Не бывает карелок не колдуний. Эх, Лоухи, Лоухи! Не Ховра — а другая, молодая и улыбчивая.
Зачем же Бокий-то сюда пожалует? Пустая это земля, соловецкая. Только страдания отсюда исходили, да страдания сюда и притягивались. Пытались монахи да церковники это дело исправить, да где они — бескорыстные монахи да церковники? На одного бессребреника по тьме корыстолюбцев. Куда уж Соловкам до Валаама!
Был в пятнадцатом веке Савватий, Соловецкий чудотворец, был тогда же Герман, тоже чудотворец, да Зосима, опять же чудотворец. Все, как водится, преподобные и все трое могли творить настоящие чудеса. И творили, лицемерие гнали, а зло бороли.
Не просто так они на Соловецком острове собрались, не просто так ночами дежурили возле внутренних колодцев, не просто так Преображенскую, Никольскую и Успенскую церкви срубили. Не просто так звали они на помощь легендарного карельского бунтаря Рокача, который сумел сплотить вокруг себя всяких разных карелов всякого разного достатка. Конечно, позднее это дело признали бунтом, потому как не царев наместник поднял народ, а кто-то, кто и по-русски изъяснялся не вполне.
Помер в 1478 году последний чудотворец Зосима, а через год преставился и Герман. Савватий к тому времени уже давно почил, так как полученные неведомым образом травмы оказались несовместимы с жизнью. Выдающийся книжник игумен Досифей составил первое жизнеописание преподобных, потом это житие чуть-чуть подправили, ближе к войне с Наполеоном еще немного переправили, а к нашему времени уже вовсе выправили. Теперь там все покайфу, теперь чудеса понарошку, а царь и отечество — конечно же, великое-великое — самое патетичное и даже патриотичное.
А Рокач? Сделали ему волею Иоанна Третьего Васильевича царскую казнь — порубили по частям под предлогом, так сказать, «работы с карельским населением». И хотели еще что-то сделать — уже посмертно — но не получилось. Кто-то перебил вялое охранение, а части тела выкрал. До сих пор могила Рокача есть, до сих пор ее почитают.
Тойво внутренне поежился, словно ледяное дыхание тьмы прошлось вдоль его тела. Соловецкий архипелаг готовился к своему новому чуть-чуть позабытому старому. Ведь по сути с момента начала особого почитания Соловецкой обители среди монастырей Московской Руси, то есть с 1514 года, если верить хронистам, именно здесь начала твориться одно из самых ужасных надругательств над Верой, что была на Севере.
Только одурманенный тупым поклонением величия государственной идеи испытывает священный трепет на Соловках. Только несчастный религиозный фанатик ощущает чистоту и святость на этой проклятой не одним поколением людей земле.
Антикайнен никогда не интересовался Соловецким архипелагом, но, блуждая между жизнью и смертью, впитал в себя какие-то знания, которые, может, и не нашли бы никакого документального подтверждения, но теперь были у него. Он просто знал и не хотел ничто никому доказывать.
Уж не за этим ли Бокий сюда приедет? Уж не обнаружил ли он, а, точнее, его человек Барченко, связь между Ловозером и Соловками?
Связь-то, конечно, есть — подземная. Так это каждый дурак знает, только никто, пусть самый умный, не знает, где именно эта связь и есть. У «дивьих» людей спросить никто не может. «Дивьи» люди берегут свое «диво», как зеницу ока.
Мысли Тойво настолько запутались, что из псевдо-беспамятства он плавно соскользнул в сон.
Рядом разлеглись по своим местам и тотчас же заснули монах Игги и барон Мика. На Соловках тоже надо было спать.
В тюрьме не просыпаются с первым криком молочницы. Туда молочницы заходят очень редко, разве что посидеть немного. Да и то кричат лишь в особых случаях: когда их принимаются бить.
Однако молоко в застенках — не то, чтобы сказка, не то, чтобы мечта — оно просто есть. И его можно есть, точнее — пить.
Поутру открылась дверь в келью, и насупленный военный без отличительных знаков в петлицах принес на подносе кувшин молока и ломти черного хлеба. Выложив поднос прямо на пол, он, не произнеся ни слова, закрыл за собой и только потом позволил себе выругаться на русском языке.
— Что он сказал? — спросил Мика.
— Сказал, что любит тебя чистой комсомольской любовью, — ответил Игги.
Тойво открыл глаза и прислушался к себе. То ли слух у него притупился, то ли перестал слышать самого себя, но чувствовал он себя лучше, нежели чувствовалось до этого последнюю неделю. Он был жив, и болевые ощущения как-то притупились, и в то же время стала понятна слабость организма. Слабость имеет обыкновение пройти со временем, если боль не вернется.
— Я ничего не пропустил? — спросил Антикайнен.
— Как раз вовремя, — сказал Игги.
— Стесняюсь спросить: молоко ты один будешь жрать, или как? — поинтересовался фон Зюдофф, уже прохаживаясь возле подноса, отчего сделался похожим на кота, подбирающегося к лакомству в виде деревенской колбасы, забытой в легкодоступном месте.
— А заказывал чаю, — проговорил Тойво. — Ладно, и молоко тоже хорошо. Угощайтесь, товарищи.
Долго уговаривать никого не пришлось. Мика разлил питие по кружкам, мигом разделил хлеб на равные части, и потер в предвкушении ладони:
— Итак, приступим, господа!
Молоко для желудков, прошедших испытание какими-то помоями — прекрасное слабительное. Ах, ну и ладно!
Так подумал каждый из сидельцев. И тут же каждый сделал первый глоток. Правда Игги перед этим помог финну принять полусидячее положение, что тоже было уже прогрессом.
Молоко было вкусным-превкусным. Вероятно, в новообразованный Соловецкий охранный гарнизон осуществлялись специальные поставки от местных жителей. За деньги, как положено, или за натуральный обмен. Пока коровы не разбрелись на первые пастбища, молоко еще было. И охранники предпочитали, чтобы на этом молоке варилась обязательная уставная каша.
Понятна стала жалость утреннего вертухая, которому выпало доставлять столь калорийное