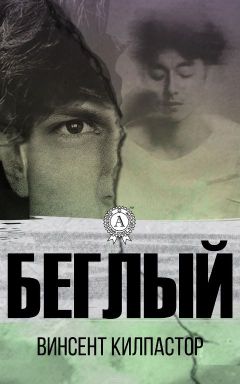Затем он бережно, как древний манускрипт ацтеков, принимает у меня выданный Давлатом список, и вскоре выталкивает лоток забитый нарезанными пайками серого тюремного хлеба.
Пайка. В кодексе правильных понятий существует целая глава раскрывающая важность, целебность и святость понятия «мужиковская пайка». Крысить мужиковскую пайку — один из самых страшных грехов.
Впрочем, не буду вас этим утомлять. Сами понимаете — вещь нешуточная.
У хлебного лотка ремень чтоб его можно было подвесить на шею — на манер коробейников. Нервное напряжение потихоньку спадает. А может это меня запоздало накрывает марсова трава, и я снова почувствовав радость от того что сидится мне в тюрьме приятно и легко, начинаю мурчать под нос:
Ой, полна, полна моя коробушка,
Есть и ситец, и парча,
По-о-о-жалей, моя зазнобушка,
Молодецкого плеча!
— Эй, балянда, завтра шимоткя не забудь да? — ласково провожает меня пан Хлеборезка и захлопывает окно своего скворечника. Надо вам заметить — тюрьма не любит открытых окон и дверей — вечно тут все хлопает и защелкивается прямо у вас за спиной.
Тут я прервусь чтобы вам, будущие урки, внушение сделать — никогда, слышите, никогда не укуривайтесь в три тридцать утра в свой первый рабочий день. Будь то офис Международного Банка Реконструкции и Развития или просто тюремный централ. Сохраняйте на работе трезвость, хотя бы в первый день. Учитесь на моих ошибках.
Потому что дальше началась полоса сплошного кошмара. Иногда проходят годы — и мы вспоминаем о прошедших злоключениях с улыбкой. Но это не тот случай.
Это были, наверное, одни из самых страшных несколько часов за все мои шесть с половиной в общей сложности тюремных лет. До сих пор просыпаюсь с криком, когда снится то роковое утро. Недобрую шутку сыграла со мной дурь — трава. Недобрую.
Начнём с того, что я по рассеяности забыл у пана Хлеборезки долбаный список второго этажа. А может он специально его зажучил — это уже историкам из будущего предстоит разбираться.
Потом тюрьма опять же. Ведь ТТ это не только пересылка для путешествующих из учреждения в учреждение клоунов как я. Здесь и женская следственная — Монастырь, и малолетка, и страшный спецподвал МВД, и зиндан — камеры смертников и отсеки приведения приговоров в исполнение, у этих палачей даже термин есть для такого типа тюрем «исполнительная», но самая большая часть тюрьмы это — СИЗО — следственный изолятор.
Когда вы под следствием, то в интересах дела не должны иметь никаких контактов с окружающим миром. Чтобы не сговариться с подельниками, и не организовать геноцид свидетелей.
Поэтому в СИЗО целые системы подземных и надземных коридоров, рамп, лестничек клеток, секционок. Многие коридоры дублируют друг друга. Так чтобы даже во время конвоирования в допросную и обратно, у вас и шанса перекинуться словом с подельниками не возникало. Кроме того усложняет в разы побег — заблудится можно как акыну в московском гуме.
Даже контролёры — новички, имея при себе схему-планшет, регулярно тут теряются. Что уж говорить обо мне, не выспавшимся, подсевшем на марихуановые измены, ещё и с этим идиотским тяжеленным лотком на шее в довесок.
Любой, кто отсидел, скажет вам — тюрьма — это живой организм. Гигантский шевелящийся осьминог, у которого может быть разное настроение и отношение к вам в зависимости от кучи причин. Вечное движение щупалец. Как говорит узбекский фольклор, здорово приблатневший в эпоху юртбаши, это не халам-балам, это турма, балам!
* * *
Я вам честно говорю, шёл точь-в-точь, как за полчаса до этого мы летели с Марсом. Те же салатовые продолы, хлопающая секционка, потом направо, ещё раз направо, и вот тут-то должна была быть лестница на второй этаж.
Вместо второго этажа я оказался почему-то в четвёртом ауле ТТ. В жизни там не бывал до этого.
«Как удивительны все эти перемены! Не знаешь, что с тобой будет в следующий миг…» — подумала Алиса, но вместо Белого Кролика мне навстречу вышел молодой поджарый контролёр-казах. У него была, по-самурайски бесстрастная физиономия.
С минуту он, молча меня, разглядывал, потом вдруг оглушительно закричал на кочевом гортанном наречии.
На его крик сбежалось ещё несколько похожих на него как родные братья сегунов. Вволю насмеявшись, и перетянув меня для острастки дубинкой по спине (боли я от ужаса совсем тогда не чувствовал), самурай вырвал листок из блокнота, и насупившись, как ребёнок на первом уроке рисования, нарисовал схему как вернуться во второй аул.
Составление схемы сопровождалась их ржанием и подробными инструкциями на языке Абая Кунанбаева, из которых я улавливал только одно знакомое казахское слово — кутак баш — это вроде значит «залупа».
Казахи в узбекских тюрьмах — это типа латышских стрелков или китайских карательных отрядов революционной красной армии Ленина. Сатрапы режима юртбаши. Им по херу кого охранять. Лишь бы зарплату платили вовремя.
По карандашной карте-схеме я легко двинулся вперёд и вскоре… очутился прямо на вокзальчике.
Вокзальчик — это типа цеха такого, куда нас всех привозят, шмонают, снимают отпечатки, фоткают, иногда слегка бьют, а потом раскидывают по хатам или зонам — смотря, куда у вас билет. Такой распределительный пункт. Прямо у входа в тюрьму.
Очутившись на вокзальчике, я совсем уж перепугался. Сейчас меня вот тут и накроют с этим хлебом коробейным, и пришьют сходу ещё пару лет за попытку побега.
Шарахаться тут в вольной одежде — очень опасная затея.
Надо срочно найти какого-нибудь офицера хоть немного понимающего по-русски и сдаваться. Чем быстрее сдамся, тем меньше впаяют.
Тут — то к моему глубочайшему облегчению мне на плечо легла тяжёлая рука дур-машины Давлата.
— Ты какого хера здесь потерял, джигут? Полтора часа всего до проверки! Хлеб-то кто будет раздавать, Голда Мейер?»
А я ему как отцу родному обрадовался:
— Давлат-ака, Давлат-ака, илтимос, проводите меня во второй аул-а, пожа-алуйста, пропадаю совсем.
Будь она проклята, эта анаша думаю, никогда в жизни больше её курить не стану!
— Йе! Потерялся што-ли кутак-баш? Тощщна не еврей — те вроде как хитрые, а ты сопсем-сопсем далбайоп! — посетовал он:
— Пашли, кутак-голова, нога в руки и пашли.
Через пару минут галопа за бодро вышагивающим, как Пётр Великий на корабельной верфи, долговязым Давлатом, я, наконец, очутился в продоле второго этажа нашего аула и, возблагодарив аллаха за его не чем не объяснимую милость, бодро принялся раздавать хлеб.
Тут все же нужно отдать должное воровской постанове — ведь в хатах сидели и ворюги, и аферисты и марвихеры всех мастей, любой из которых мог легко выкружить у меня лишнюю пайку хлеба.
Да что там пайку — весь короб, выцыганить, увидев лоха в панике, но каждый принимающий под счёт пайки стоящий у кормушки васёк, вёл себя подчёркнуто корректно. Никто ни разу не попытался плескануть на меня горячим чифиром из кормушки — как стращал до этого третий обитатель баландёрской хаты — вечно испуганный пухлый Улугбек. Я и тогда ему не поверил — чифир, его пить надо, а не в морду плескать.
Я воспылал благодарностью к воровской идее и даже, перекрестившись, быстро передал несколько маляв и целую машинку с светловато-коричневым раствором хандры из одной хаты в другую. Из рук — в жилы, так сказать.
У меня как крылья за спиной выросли. Надо помогать мужикам под замком — сам там сидел.
Стал раздавать быстро и чётко — будто спортсмен, немного замешкавшийся на старте и теперь уверенно нагоняющий упущенное время.
Все шло гладко, как по маслу, пока я не дошёл почти до самого конца продола. Тут у меня хлеб вдруг взял и закончился. А вот хаты? А вот хаты-то совсем даже ни закончились. Боже мой!
Наступил апогей кошмара. Хлеба не хватило. Хлеба, понимаете? Паек мужиковских — святая святых. Наверное, кусков сорок, а то и поболе не досчитался. Да как же это?
Хотя — какая уже разница — как же это? Мне теперь крышка — это ёжику понятно. Самое малое, что теперь произойдёт — это то что меня немедленно опустят, и уже завтра, в это же самое время я буду играть на этом самом продоле в хоккей со шваброй. Стану новым третьяком или овечкиным.
В единственной на таштюрьме хоккейной команде состоящей из парней с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Самое страшное в тюрьме — стать хоккеистом.
Это не только ведь унижение достоинства — им еще и самую грязную и тяжелую работу поручают. Как неприкасаемые в индуизме вообщем. А вот интересно — творцы кодекса понятий на индуизм опирались? Кастовую систему? Или на тут нашла выход подозрительная близость Маркса с Энгельсом?
Блин — ну какой к черту индуизм? Мне уже кашу пора бегать раздавать, а я еще хлеб сдаю. А хлеба — не хватает. А может теперь в тюрьме из-за моей безалаберности вспыхнет бунт и мне непременно добавят срок. Организация массовых беспорядков. А по концу, наверное, зарежут на пересылке — «он скрысил сорок порций хлеба у мужиков, Сильвер, пустите ему кровь».