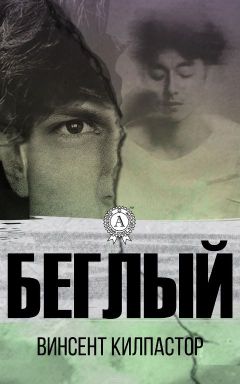Знаете — в Библии есть байка. Иисус возрождает Лазаря из мертвых. Просто проникнитесь эмоциями Лазаря. Вот — лежу в гробу. Через пару часов — черви начнут мной лакомиться. И вдруг — бабах — второй шанс! Ожил! Воскрес! Да я же теперь умней, мудрей буду — в жизни не повторю ошибок, вот увидишь, Господи!
* * *
К счастью, нас освобождается сегодня только пятеро. Иначе оформление у этих негодяев заняло бы долгие недели. Спешить тюремным чиновникам в этом поселке совсем некуда.
Хотя мы давно вышли за ворота, нас уже третий час фильтруют из одного казенного коридора — в другой казенный коридор, из кабинета с юртбаши в кабинет, все заставляют подписывать какие-то бумаги, формы, бланки, спрашивают — где собираемся «трудоустраиваться», дают по нескольку тысяч смешных узбекских денег (Амур Темур — как обычно, скачет на лошади).
Реальную стоимость этого арабского скакуна мы откроем для себя сразу же у ближайшего, торгующего сигаретами и залежалым сникерсом, поселкового ларька.
Первый за годы ларек, где ты уже просто покупаешь, а не отовариваешься.
Мужички одеты похуже меня. У них не было таких возможностей. Весь их вид уже является нарушением столь ненавистного мне понятия «общественный порядок». А мужички собираются купить, кроме сигарет, еще и мутноватой теплой водки. Свобода! Хотят, понимаешь, чтобы фиеста взорвалась немедленно. Настрой у мужичков искристый.
Зовут и меня, хотя вроде по понятиям с гадами пить неправильно. Помню последние пару месяцев совершенно незнакомый мне человек в лагере постоянно грозился при встрече. Найду я тебя, гадила, на воле! Знаю, где ты живешь, найду! Вот посмотришь! Убей не помню, чтобы делал ему какое зло. Ну — пусть ищет и валит меня наглушняк, раз так ему угодно. Знает он — где я живу, шустряк! Да я сам еще понятия не имею, где жить стану.
Мне бы только до Москвы, а там уже рукой подать!
Похоже мужички на радостях простили не только меня, но и ментов, которые еще вчера погоняли их дубинками на промку, шмонали, крыли матом, а теперь вот трутся рядом в ожидании бесплатной выпивки. Амнистия. Люди быстро умеют прощать.
Мы уходим, а ментам еще отбывать тут до самой пенсии. Пожизненно.
Ну-ну. Нет уж, ребята. Спасибо. Отсидеть здесь столько лет, чтобы выйдя, на месте же нажраться с унылыми псами? Вам их рожи не осторчетели, нет? А очнуться потом утром в клоповном зангиотинском вытрезвителе или в местной ментуре, если в ходе торжеств припомнятся вдруг старые обиды?
Найн! Как говорится, кто-куда, а я в сберкассу!
Пейте сами ваш трескучий арак.
Узнав у ментов где тут автобусная остановка «в город», я, прикурив у знакомого прапора, направляюсь прямо туда.
Извините, но не могу. Никак. Меня ждет царство.
* * *
Сижу на остановке. Жду автобус. Закуриваю снова. Читаю надписи ожидавших автобус до меня и канувших в лету пассажиров: «Ассалом Бахтиер!», «Смерть ментам» и короткое — «Кут». Мне становится близким агрессивный настрой пассажиров. Автобус тут редкий гость.
Сидеть снова совершенно мне не по силам.
Начинаю шагами, как Валерчик в камере-одиночке, мерять остановку по диагонали. А внутри все кипит звенящей радостью. В голове тоже бедлам полнейший. Хочется двигаться и орать. Воля!
А автобуса нет. Нет автобуса.
Вокруг меня только глиняные узбекские дувалы, которые, говорят, в Афгане наши умудрялись прострелить только бронебойным снарядом.
Ну, нет уже больше сил ждать. Еще пять минут и я начну биться в конвульсиях на заплеванном зеленым насваем бетоне остановки.
Я знаю, что до окраины Ташкента, до Сергелей всего то каких-то километров пятнадцать-двадцать, так какого же хрена? Пусть автобус теперь меня догоняет по пригородным колдоебинам. Дорога в тысячу километров начинается с одного шага.
Решительным маршем двигаюсь по пыльной дороге туда, где по моим расчетам должны быть Сергели. Если не просчитался — через пару часов дотопаю. Или не через пару. Дотопаю все равно.
Ментовский поселок быстро остается позади. Прощайте. Я не буду скучать.
Мне все время кажется, что иду я слишком медленно, и шаг мой трансформируется сперва в трусцу, а затем в какую-то нервную рысь полузагнанной лошади Тамерлана. В зоне ноги отвыкают от расстояний, икры почти сливаются с костью, атрофируются. Издырявленная постоянным курением дыхалка тоже не ахти какой помощник.
Мне кажется, что дорога слишком петляет, и я срываюсь напрямую, через поле с плохо убранной и теперь гниющей на грядках капустой. Запах капусты напоминает варочный цех, Рустама и его поварят. Прощайте микимаусы хреновы.
Когда, в очередной раз, поскользнувшись на вялом и осклизлом капустном листе, я чуть ли не пикирую носом в землю, невольно оборачиваюсь и вдруг вижу зангиотинскую командировку. Всю как на ладони.
Она оказывается такой несуразно маленькой!
Этот огромный, кипучий мир, зона — которая была моей вселенной и единственной реальностью несколько лет, сейчас размером со спичечный коробок с муравьями внутри.
А еще издалека зона просто кажется чем-то мирным вроде пионерского лагеря или санатория с вышками, как в Треблинке.
Маленькая бетонная коробочка на фоне бескрайних капустно-свекольных, бугристо-борщевых полей. Вспомнив в секунду все, что пришлось пережить в этой коробочке, я слегка вздрогнул. Завтра ведь придется возвращаться — отработать грев Рамиле. Может, попросить кого?
Совсем туда не тянет.
День освобождения. Я ждал его шесть с половиной лет. Дня, когда отпустят и дадут бумажку, что можно уже. Бумажка — узкая и длинная, будто отмотана от рулона с туалетной бумагой. Она зашифрована на новом узбекском, так, что ни один освободившисй со мной узбек не смог толком разъяснить таинственный смысл напечатанных под копирку заклинаний. Внизу бумажки — мой старый знакомый — лысый и перепуганный фотовспышкой мудак.
Шесть половиной лет назад это был мальчишка, в розоватых соплях первой любви сперевший кассу из родного офиса. Теперь мы имеем готовый продукт исправительной системы — законченного негодяя, на которого негде ставить клеймо. Был ли я опасен для общества, когда садился и трепетал от одного слова тюрьма? Опасен ли сейчас? А вот, подождите, суки, скоро и увидите. Если я так нормально смог устроится на строгом режиме, думаете тут, в царстве мягкотелых граждан, не пробьюсь?
Стало темнеть, и тогда, далеко впереди, я увидел игривые огоньки девятиэтажок Сергелей.
Только в тот момент мне стало наконец понятно, что я действительно на свободе, и, ежесекундно спотыкаясь через грядки, я рванул на своих макаронных ногах в сторону большого света.
* * *
Когда мой отец получил давно ожидаемое продвижение по службе, в месткоме предложили альтернативу — трехкомнатная в Сергелях или трехкомнатная на Юнус-Абаде.
В те далекие времена оба района были практически равнозначными городскими окраинами.
И, выбери тогда отец Юнус-Абад, стояло бы сейчас наше родовое гнездо в тихом центре сегодняшнего Ташкента, в тени узбекского бояна на Останкинскую башню.
Но отец взял да и выбрал Сергели.
Поэтому, как бы жутко это не звучало, но большая часть мое детства прошла на кладбище. Маленьком, уютно заросшим сиреневыми кустами и ирисами, Сергелийском кладбище.
Помню смутно веселый день переезда — какой-то ЕрАз, был такой ереванский автозавод, почивший позже в неравной борьбе с тойотами и вольвами, друзья и подчиненные отца громко таскают мебель, и я волоку на пятый этаж такую тяжеленную штуковину, через которую тогда подключали телевизоры — «стабилизатор напряжения».
Было мне от силы лет шесть, и этот стабилизатор запомнился мне образцом непомерной тяжести, страдания и бесконечной бетонной лестницы.
Похоже в тот день досталось всем, потому что в конце, когда весь скарб перекочевал из грузовичка в наш, тогда совсем еще не обжитой зал, товарищи отца махнули по двести пятьдесят коньячку с лимоном, да и заснули кто-где вповалку, на чем придется.
Мы переехали.
* * *
Я стряхнул с себя этот полугон воспоминаний и бодро вошел в Сергели.
Именно эдак, знаете ли, вступил — из каких-то сумерек прямо на залитую ярким светом фонарей крикливую сергелийскую ярмарку.
Около огромных тазов прямо на земле расположились узбечки, торгующие семечкамим и куртом.
Волной пряностей пахнуло от рядов, где кореянки торгуют хе, кук-су, морковкой и ким-чи. Сейчас я накуплю у них всего и лягу в тарелку лицом.
Пожилой узбек похож на Моргана Фримана. Выйдя из Шоушенка, Фриман, в традиционном советском, не первой свежести белом халате, продает из плохо сбитых не оструганных деревянных ящиков «Советское Шампанское». Правда, слова на наклейке теперь «Узбекистон Шампани» — но меня не обманешь. Нашенское! Советское!