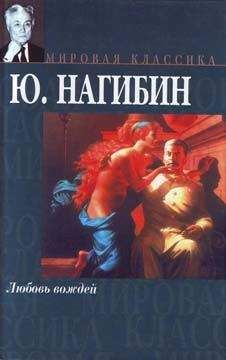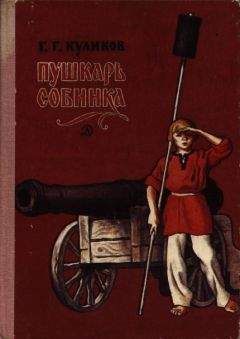С Хусейном дело иметь не сложно, имея помощником хитрющего Арафата; куда труднее было убедить жестких израильских военных, застоявшихся с дней своих победоносных войн, не прикончить балду-агрессора, который во всеоружии допотопной советской техники был столь же неуязвим, как Дон Кихот в картонных латах, с медным тазиком для бритья на голове.
Но убедил вояк Агасфер, даже на человеческие жертвы заставил пойти — и в результате одержал очередную победу, потрясенный новыми жертвами многострадального народа, мир опять раскинулся перед евреями, как интердевочка перед японским клиентом. Увеличение американской эмиграционной квоты было вовсе не нужно Агасферу, но дрогнула жидоустойчивая Австралия, из-за которой, собственно, и загорелся весь сыр-бор. Пятый континент слишком долго был местом добровольной и не добровольной ссылки всякой английской протери: от жалкого обнищеванца мистера Майкобера до каторжников и убийц; и, начав всерьез строить свою государственность, австралийцы стали крайне разборчивы в допуске на родину коалы и кенгуру ищущих пристанища бродяг. Вечного жида это не устраивало, и он кардинально решил проблему. Примеру Австралии последовали Новая Зеландия, Фиджи и все острова Океании. Евреи хлынули на новые тучные земли…
Мы рассказали о нескольких героических событиях в долгой борьбе Агасфера за создание Планеты Жидов, наметили пунктиром его путь вплоть до исхода двадцатого века. Были у него трудности — порой немалые — и после войны в Заливе. Но мы не пишем историю этого невероятного строительства, задача наша куда скромнее: поведать читателям о горестной судьбе самого прораба.
В середине двадцать первого века Агасфер завершил свой труд, завещанный ему отнюдь не от Бога. Хотя кто может наверное знать? Даже самому Вечному жиду не было доподлинно ведомо, возникла ли его дерзновенная идея спонтанно или была подсказана ему мудреным Ягве. Ему казалось, что он действует от себя, не было никаких видений, явлений, он не слышал тайных голосов, не видел вещих снов. Но разве это так уж важно? Важно другое: теперь землю населяли сплошь евреи, хотя не исчезли и прежние наименования наций: англичане, французы, немцы, русские, китайцы и т. д. Но они значили куда меньше, чем выражения исхода двадцатого века: «американские негры», «американские итальянцы». Там все-таки подчеркивался разный состав крови, а здесь состав крови у всех был един. И Вечному жиду захотелось обозреть творение рук своих и сказать, как Господь Бог в шестой, последний день творения: «Это хорошо!»
Он решил устроить нечто среднее между знаменитым шествием поезжан к Ледяному дому в царствование Анны Иоанновны и Первым всемирным фестивалем молодежи в Москве. Он выбрал русскую столицу, ибо ни с одной страной не было столько осложнений, трудностей, мук, сколько с Россией, особенно когда на сцену выступили патриотические силы. Если бы годы что-то значили для Вечного жида, он мог бы пожаловаться, что борьба с заединщиками отняла у него немало жизни. И конечно, надругаться над московской святыней — Красной площадью входило в его коварные замыслы. Итак, парад народов мира, ставших единым еврейским народом, но сохранившим в этом общежидии свои традиционные имена. Тысячи людей, съехавшихся со всех концов земли, прошагают по старинным торцам мимо Мавзолея, изменившего свое назначение: прежде он был усыпальницей вождя — ныне стал музеем большевистских злодеяний; главный экспонат — мумия в пиджачном костюме. Далекой предрыночной порой, спасая свое имущество, партия приватизировала Мавзолей, а затем сдала муниципалитету под музейное помещение.
Пока шла церемония, стоявшие на Мавзолее главы государств с любопытством и бессознательным уважением обращали взгляды к пожилому, статному, смуглолицему человеку с глубоко запавшими глазами и густыми черными бровями в одну полосу. На нем были белые легкие одежды, белый тюрбан, заколотый драгоценным камнем, на шее золотая цепь, длинные музыкальные пальцы унизаны перстнями. Усталым покоем веяло от его выразительного лица. Порой на уголок глаза набегала слеза, он скидывал ее мизинцем с длинным, чуть загнутым ногтем. Они не могли взять в толк, кто такой этот экзотический человек, какую страну он представляет; никому из стоящих на Мавзолее он не был известен. Какой-нибудь магараджа, шейх, султан, эмир, но почему он так по-хозяйски занял место среди первых людей Америки и Евророссии? Спросить его никто не решался, было в нем что-то величественное, таинственное и неприступное.
Агасфер смотрел своими острыми, как у орла, глазами с небольшой, но охватистой высоты Мавзолея на проходящих стройными рядами евреев и не замечал, что губы его шепчут: «Так совершенны небо и земля и все воинство их!..»
Он имел право на эти слова из книги «Бытия», коими восславлены дела Господа, создавшего этот мир, ибо дал завершенность и единство творению Вседержителя.
И все-таки он не мог не признать, что примесь чужой крови подпортила чистый русский тип. У еврейских красавиц широкий таз, выпуклые глаза, крупноватый нос и складка горечи терпения в уголках губ. Наверное, нужны тысячелетия, чтобы стерлась древняя скорбь гонимости. Ничего, время все лечит… Хотелось бы чуть большего разнообразия в лицах. Это касалось не только женщин, но и мужчин. У последних одинаковости способствуют пейсы и горбатый нос. Даже плоские, словно раздавленные, сопатки африканцев слегка оклювились. Что-то неприятное шевельнулось в душе, и, гоня прочь внезапную смуту, он снова окинул взглядом всю необъятность площади.
Мощный крик: «Шолом!.. Шолом!..» — потряс землю и небо.
И отозвался слезой на крепкой скуле Агасфера.
Язык землян сильно унифицировался в конце двадцатого века в связи с мощным проникновением Америки в поры мировой жизни; в последние десятилетия американизмы отступили под напором иврита, наложившего приметный отпечаток на все языки и наречия. Но ничего похожего на эсперанто не возникло: все нации продолжали говорить на своем, хотя и сильно приправленном евреизмами и певучей интонацией языке. А вот сердечное приветствие «Шолом» стало повсеместным.
Сейчас это выкликали высоченные, сухопарые суданцы звучными глотками. За ними, пущенные по контрасту — это выглядело удивительно трогательно (слава церемониймейстеру!), — семенили крошечные пигмеи и своими птичьими голосами тоже кричали: «Шолом!.. Шолом!..»
Они были в очень коротких шортиках и в жилетках. Плоские угольно-черные лица обрамлены жесткими кудельками пейсов. Жилетки получили такое же повсеместное распространение, как и традиционное еврейское приветствие; они были из разного материала: кожаные у североамериканцев, замшевые у европейцев, шелковые у жителей Экваториальной Африки, Австралии, Океании, меховые у эскимосов, ненцев, чукчей, из ситцезаменителя у россиян. Причину этого увлечения Агасфер понял позже, когда началось свободное гулянье поезжан. Лишь два снежных человека обходились без жилетов, они были совершенно голые, в собственном жестком волосе, с забинтованными после недавнего обрезания членами, чем простодушные дети Гималаев очень гордились, стараясь привлечь внимание окружающих к своим забинтованным культям. Пейсы были и у них. Опять Вечного жида что-то кольнуло. Он был слишком индивидуалистом, чтобы спокойно воспринимать унифицированность.
Вся площадь вскипела аплодисментами. Колонны расступились, образовав широкий коридор. И по этому коридору в коляске на дутых шинах провезли ветерана черносотенного движения, крупнейшего теоретика погрома, последнего из могикан-восьмидесятников, когда так ярко разгорелся в глухой ночи перестройки патриотический факел, прославленного Олега Запасевича. Ему недавно стукнуло сто двадцать лет. Предвечному пришлось удлинить ему срок земной жизни, чтобы провести его сквозь чашу заблуждений к свету истины. Он прошел долгий и трудный путь: некогда крупный ученый, он наступил на горло собственной песне, чтобы другой ногой наступить на горло «малому народу», как он остроумно называл евреев в своих блистательных эссе, манифестах и программных речах.
Пожалуй, не было у Вечного жида более сильного противника, чем этот сутулый, хилый, слабый плотью кабинетный ученый, нашедший в критическую для страны пору огненные слова трибуна. Сейчас Агасфер почти с любовью смотрел на скрюченного в кресле старикашку; под черной ермолкой морщинилось печеным яблоком крошечное личико, торчали седые пейсики двумя мышиными хвостами. Будучи во всем максималистом, Запасевич в пору своих искренних заблуждений при каждом удобном случае принимал святое крещение; вернувшись в лоно своего народа, он сделал вторичное обрезание (первое, совершенное при рождении, он скрывал) и отхватил почти всю оставшуюся плоть. Известно, что раскаявшийся грешник стоит десяти праведников, оттого и был так велик всеобщий восторг.