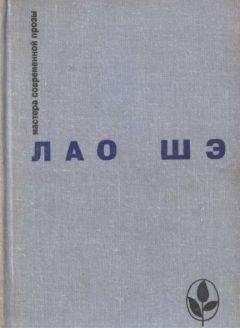— Позвольте узнать, из какого материала делают подобные камни в вашем драгоценном отечестве? — спросил ученый муж На Юйшэн. Он хотел показать, что нисколько не боится иностранцев.
Ньюшэн задумался. Не зная, как ему лучше ответить, он засмеялся: кха-кха!
— А сколько стоит такой камешек? — вдруг спросил он.
— Мне его только что прислали из лавки «Чжэньсючжай» — «Драгоценное изящество». Просят 80 лянов! — ответил хозяин дома и спросил у ханьлиня-китайца: — Господин На, а как считаете вы? Сколько он может стоить?
— От силы 50 лянов! Красная ему цена! — ответил ученый, но, испугавшись, что его поспешный ответ может принизить ученого-маньчжура, тотчас добавил: — А что думаете вы, почтенный Сяоцю?
Линь Сяоцю знал, что, если бы пришлось покупать ему, он выторговал бы камень за 10 лянов. Однако раскрывать перед людьми жадность знаменного мужа как-то неудобно, поэтому он лишь кивнул головой в знак согласия.
На носу пастора выступили капельки пота. Он понял, что до настоящего времени он шел неправильным путем. Подумать только, эти люди готовы выложить 50 лянов за какой-то камень! И почему только он не нашел дорогу в этот дом раньше? Зачем путался с бедняками или бездельниками вроде Глазастого До? Сейчас надо проявить всю свою решимость и обязательно познакомиться поближе с этими людьми, пусть даже ему придется перед ними полебезить! А когда он разбогатеет, он на них поглядит уже другими глазами! Такое время не за горами. Пастор принял решение во что бы то ни стало им понравиться, и сделать это ему надо сегодня, сейчас!
В голове Ньюшэна роились разные замыслы, когда до его слуха донеслись странные звуки, будто легкое пощелкивание. Он заметил возле окна две фигуры, склонившиеся над шашечной доской. Один из игроков был в одеянии буддийского монаха, другой — в халате даоса. Оба были так увлечены игрой в облавные шашки, что, по всей видимости, даже не заметили прихода нового гостя.
Буддийскому монаху, наверное, за пятьдесят, но, несмотря на возраст, его лицо было лишено морщин. Чисто выбритая голова ярко блестела. Простая серая ряса подчеркивала его несколько необычный облик. Если судить по лицу даоса, едва тронутому желтизной и как будто прозрачному, ему, наверное, также было около пятидесяти, но его длинная красивая борода совершенно седая. Халат даоса и его шляпа привлекали внимание утонченностью покроя.
В сердце пастора вспыхнул гнев. Он и его друзья хорошо знают, что, кроме той веры, которую они исповедуют, нет и не должно быть никакой другой, не исключая католичество и иудаизм. Что касается буддизма и даосизма, то это суть сатанинская ересь, которую следует беспощадно искоренять. Совершенно ясно, что Дин Лу пригласил монахов намеренно, чтобы досадить пастору и тем самым унизить всевышнего! Значит, пастор должен встать и уйти, пожертвовав угощениями, судя по всему прекрасными. Да, да. Он непременно уйдет, чтобы им насолить! Пусть покрутятся! Перед пастором возникла маленькая служанка с фарфоровой чашечкой, покоившейся на голубом блюдечке из фуцзяньского лака. Украшенная синими цветами, чашка была сверху прикрыта крышкой. Низко склонив голову, девочка-служанка осторожно поставила ее на небольшой чайный столик и бесшумно удалилась.
Ньюшэн, приподняв крышку, увидел на поверхности напитка несколько продолговатых зеленых чаинок. Он не находил вкуса в зеленом чае, поскольку привык пить красный — крепкий, подслащенный сахаром и разбавленный молоком. Раздражение пастора вспыхнуло с новой силой, а его желание уйти еще больше окрепло.
— Есть дело! — раздался снаружи голос маленького слуги.
На пороге появились два ламаистских монаха в шелковых рясах, стянутых в талии поясом, на котором висел расшитый кошель. От красных физиономий лам исходило сияние.
Пастор сидел как на иголках, кипя от злости. Однако к его гневу сейчас примешивался страх оттого, что эти еретики в любой момент могут начать спор о вере. Что ему тогда делать? Ведь всех его религиозных познаний хватало лишь на то, чтобы запугивать таких людей, как Глазастый До. Это он знал сам!
Один из вошедших (кто был телесами потолще), по всей видимости, был образован. Говорил он низким голосом, и с его губ не сходила улыбка. Второй монах, имевший вид бодрячка, едва переступив порог, воскликнул:
— Господин Дин Лу! Хотите, я исполню вам арию из оперы «Казнь у приказных ворот»? Вот послушайте! — Его голос звучал почти фальцетом.
— Прекрасно! — откликнулся хозяин. Его брови радостно взметнулись вверх. — А я выступлю в роли Цзяоцзаня! [109] Пойдет? А?! Только сначала закусим! — И он крикнул слуге, который стоял снаружи: — Можно подавать на стол!
— Все готово! — раздался из сада голос мальчика-слуги.
— Прошу, прошу! — обратился хозяин к гостям.
Как только пастор услышал о еде, гнев его мгновенно исчез, а намерение уйти пропало. Но возникло другое желание: во что бы то ни стало прийти к столу первым, опередив всех этих монахов и ученых ханьлиней. Однако хозяин его остановил.
— Извините, но самый старший среди нас наставник Ли. Прошу вас, учитель!
Седовласый даос, немного для вида поцеремонившись, степенно направился к выходу. К нему тотчас подбежал мальчик-слуга с предложением услуг.
— Нашему учителю уже девяносто восемь, но обратите внимание, какой он бодрый! — засмеялся хозяин дома.
Пастор опешил. Значит, правду говорят, что даосы обладают колдовским искусством, способным предупреждать старость и продлевать годы жизни. Выходит, надо этому верить!
Следом за даосом, не дожидаясь, когда его позовут, двинулся буддийский монах.
— Это учитель Юэлан, обладающий широчайшей эрудицией и редким благочестием! — отрекомендовал монаха Дин. — Он играет на цине [110] и в шахматы, рисует и занимается каллиграфией. Ему нет равных в разных искусствах!
«Несомненно, обед будет на славу!» — подумал пастор и невольно поморщился, видя, что к выходу пошли оба ханьлиня и ламы. На лице хозяина появилось довольное выражение. Пастор решил, что теперь, конечно, наступил его черед, однако перед ним оказался сам Дин.
— Я покажу вам дорогу! — сказал он и пошел вперед.
«Дать бы ему хорошего пинка! — подумал Ньюшэн. — Но тогда прощай званый обед!» И пастор, смирившись с судьбой, замкнул шествие.
Пиршественный стол был накрыт в круглой застекленной беседке неподалеку от цветочного павильона. Хозяин обычно заходил сюда, когда находился в дурном настроении, дабы успокоить свое сердце и укрепить дух. Но гнев иногда долго не проходил, и тогда на пол летели безделушки, которых здесь было во множестве и все больше иностранных: фарфоровые фигурки, светильники, заморские часы. На полу беседки лежал ковер заграничной работы…
1
…И опять я увидела серп луны — золотистый и холодный. Сколько раз я видела его таким, как сейчас, сколько раз… И всегда он вызывает во мне самые разные чувства, самые разные образы. Когда я смотрю на него, мне кажется, что он висит над лазоревыми облаками. И постоянно будит воспоминания — так от дуновения вечернего ветерка приоткрываются бутоны засыпающих цветов.
2
Когда я впервые заметила серп луны, он показался мне именно холодным. На душе у меня тогда было очень тяжело, сквозь слезы я видела тонкие золотистые лучи. В то время мне исполнилось всего семь лет; на мне была красная ватная курточка и шапочка, сшитая мамой, синяя, с мелкими цветочками, — я помню это. Прислонясь спиной к косяку двери, я смотрела на серп луны. Маленькая комната — запах табака, лекарств, слезы мамы, болезнь папы. Я стояла на пороге одна и смотрела на серп луны; никто не звал меня, никто не приготовил мне ужина. Я понимала — в дом пришло горе: все говорили, что болезнь папы… И я еще острее чувствовала свою тоску, холод и голод, свое одиночество. Так я стояла, пока луна не скрылась. Я осталась совершенно одна и снова расплакалась, но плач мой заглушили рыдания матери: папа перестал дышать, лицо его закрыли куском белой ткани. Мне хотелось сдернуть это белое покрывало, еще раз увидеть папу, но я не осмелилась. Было очень тесно — почти всю комнату занимал папа. Мама надела белое платье[111] на меня поверх красной ватной курточки тоже надели белый халатик с неподрубленными рукавами — мне это хорошо запомнилось, потому что я все время выдергивала из края рукава белые нитки. Все суетились, шумели, громко плакали, но суетня эта была, пожалуй, излишней. Дел было не так уж много: всего лишь положить папу в гроб, сколоченный из четырех тонких досок. Потом пять или шесть человек несли его. Мы с мамой шли за гробом и плакали. Я помню папу, помню гроб. Этот деревянный ящик навсегда унес папу, и я часто жалею, что не открыла гроб и не посмотрела на отца. Но гроб глубоко в земле; и хотя я хорошо помню место за городской стеной, где он зарыт, могилу так же трудно найти, как упавшую на землю каплю дождя.