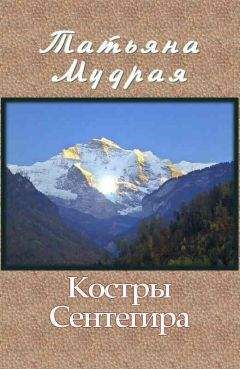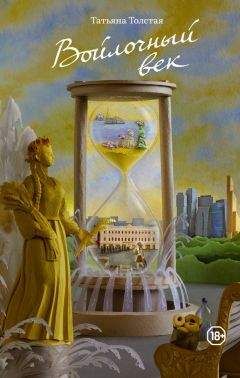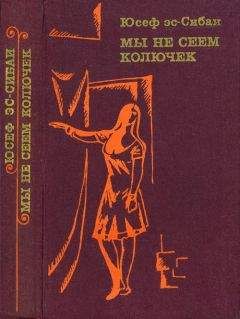— Здравствуй долго, дядюшка Орхат.
— Здравствуй и ты, госпожа Та-Эль. Узнала?
— Отчего ж не узнать? Вместе гуляли по здешним горкам и перевалам.
— Ты, я да Волчий Пастырь. Помню.
— И не забывай.
— Ради одних этих слов явилась или дело у тебя ко мне есть какое?
— Кузнец мне нужен — обоих коней на лёд и камень подковать.
— Это бы и не так хитро, но вот железа нужного мне не оставили, когда сюда выдворяли.
— У меня тоже такого нет — одно золото из Пастыревых сундуков.
— Значит, уцелело. Исхитрилась захватить, когда дом горел?
— До того, дядя Орхат.
— И сбруя, вижу, оттуда.
— И кони, дядюшка.
— Добро, отыщу им подковы, коли расщедришься. Не из железа, не из стали, но тверже здешнего камня. Раз в три месяца только и надо менять, а может статься, и реже. Морёный дуб из лэнских тайных озер.
— Карий или чёрный?
— Карий, всего четыреста лет ему. С вас станет довольно. Ухнали и шипы — чёрные, без мала тысячелетние. Ну что — ставьте к станку и вяжите узлы. Кони у вас привычны, я так думаю? Воинские?
Сорди читал в учебниках, что в первый раз, да и в последующие, лошадь сопротивляется, так что приходится даже ковать сначала одну пару ног, а на следующий день — другую. Однако здесь вышло иное.
Когда слегка нервничающего Шерла завели в необычного вида коновязь и растянули на узде, чтобы хоть головой не мотал, Орхат буркнул:
— Танцует, вишь. Глазом косит — аж насквозь прожигает. Похоже, без моей девки дело не пойдет. Леэлу, эй, гони сюда. Они оба не мужчины, тебе не опасны.
Из перекошенной двери вышла девушка: низенькая, черноволосая, большеглазая. Туника наподобие мужской обтягивала стан, делая Леэлу уменьшенной копией Орхата — правда, куда более привлекательной.
— Стоялой воды принеси и иди помогай.
Вода у них была не в жестяном — в кожаном ведре с дубовой ручкой, в ней плавал деревянный же ковш. Девушка поставила ведро наземь, затем подошла к самым ноздрям жеребца и тихо запела. Шерл вначале косил горячим оком, потом пригнулся к рукам, будто слизывая с них нечто сладкое.
— Ведьма, — холодно заметил Орхат. — это еще и из-за нее меня погнали здешние праведники.
— Приёмная дочка-то?
— Видишь, значит, что не родная. Оба родителя у нее померли.
Во время разговора он вынул из положенного наземь свертка узкую подкову, примерил. Пока он подрезал копыта, расчищал особым крючком стрелки — Шерл послушно подавал ту или другую ногу — продолжал:
— Мыслимое ли дело, чтобы сирота в Лэне бесхозной оставалась? А всё эти… Правые словом, тверезые главой. Не дело, говорят, чтобы поганые муслимы девчонку себе в родню забирали. Оба померших родителя из наших были, пускай и Еленка хоть на мирских харчах, да в нашей вере воспитается.
— Всехнее дитя — в Лэне, да и во всём Динане доля неплохая.
— Одно в Динане, иное — в их деревянной деревне. С боку припёка. Греется у чужого тепла, а своего как не было, так и нету.
Кончил обихаживать копыта, стал прилаживать к месту первую подкову.
— Я и взял в кухарки и подмастерья — печь топить, за горном следить, мехи раздувать. Жара кузнечного и иного с младых ногтей не боялась.
Весь этот речитатив наслаивался на протяжную мелодию.
— Подросла, округлилась, первые крови пролились — непонятная сделалась. Я думал на ней ожениться, и она хотела вроде — говорят, не положено. И молоденька, и вроде дочери мне.
— Дядюшка, а с какого рожна ты сам у них оказался?
Он тяжело поднялся:
— Земля это моя. Вот с какого. Раньше здесь жил и теперь захотелось. Потом работы они мне первое время обеспечивали много, и хорошей.
— А позже?
Он снова согнулся в три погибели.
— Прознали, что я боевые клинки отковывал. Для бурых и красных, черных и белых едино. Что, подзабыла разве?
Кардинена коснулась пальцами навершия своей кархи гран.
— Помню. И своей работы у тебя сабли были отменные, и из чужих обломков целое составлял. Неладно отпущенное закалял снова: в жиру, солёной воде и солёной крови.
— Вот насчет последнего они и возмутились особо, — Орхат распрямился. — Палач, говорят, и палачам потакаешь. Но сначала всю поковку забрали вместе с доброй рудой и в расщелину сбросили. Рядом с кузней мы, считай, по своей воле место выбрали. Там и раньше малая лачужка стояла — переночевать бывает способно, коли не желаешь горн поутру заново распалять.
— Что же, правоглавы голой сохой теперь землю ковыряют? Без наконечников?
— Я их по гроб жизни орудием обеспечил. Подмастерьем, опять-таки, не одна Лени у меня работала.
— Это после тех событий она себе мусульманское прозвище вернула?
Леэлу перестала петь: ее и кузнецово колдовство над Шерлом подошло к концу.
— Вовсе нет. Тогда еще было хорошо. Нам приказали гибельной остроты не творить даже в шутку, но других запретов не наложили. Лемехи, резцы да кухонные ножики…
— Полно говорить, — перебила его девушка. — Забирай своего, ина Та-Эль, и ведите другого.
Однако гнедой, едва Сорди подошёл к нему, задрал голову и отпрянул.
— Имя ему какое? — спросила девушка. — «Ни тпру, ни ну»? Или Гнедком кличешь в душевной простоте?
— Не успел придумать. Говорят, Гнедком звали самого лучшего коня в наилучшей книге.
— Всё равно не годится. Он ведь прежнюю кличку помнит, а ты не знаешь. Тебя как величают?
— Сергеем… Нет.
Это сочетание звуков стало мёртвым, плотью без души.
— Сорди.
— Сардар… — позвала девушка. — Так тебя звал хозяин?
Конь замер, повернул голову, но с места не сдвинулся. Угадала девушка или нет — для него это имя тоже не имело никакого него смысла. Как и для Сорди.
— Не годится. Сорди. Сардар. Сардер, вот как. Шерл и Сардер, живые самоцветы. Драгоценные камни в оправе своей сбруи.
Гнедой прислушался. Леэлу черпнула воды из ведра, полушутя брызнула ему в морду, плеснула наземь, потом поднесла ковш к тёмным, мягким губам:
— Пей, Сардер. А напьёшься вдоволь, наденем на тебя добрую обувку: по горам ходить, ввек не сносить.
— Благодарю вас обоих, — говорила Та-Эль, доставая из заплечной сумы кошель и отсчитывая по золотому за каждую деревяшку: такая цена была назначена. — Дядюшка, ты вот что прикинь: тебе одни орудия изо всех оружий оставили, а моему Сорди нельзя сталь за поясом носить, ибо ученик.
— Я тебе еще не всё рассказал, — ответил Орхат, глядя себе под ноги. — Стали правоглавы мою дочку хаять, что истая ведьма на свет уродилась. Почему — сама видишь. Стройно и гордо себя держит, припевки смутные во время дела распевает, всякая живность и любое ремесло к рукам льнут. Слушаются, значит.
— Ведьма — та, кто ведает,
— тихо проговорила Карди,
— Знахарка — кто знает,
Жрец — тот жрёт, а лаечка
Без помехи лает.
— И ещё. Когда я ото всех отделился и высокую цену стерпел…
— Решили, что нечестно с дочкой живёшь. А как же иначе!
— Клевета это.
— А хотя бы и нет — мне-то что в вас, а вам во мне. Твоё мастерство от этого хуже не станет.
Сорди во время этого разговора вываживал рядом обоих жеребцов, стараясь поуспокоить: девушка ушла внутрь хижины, унеся с собой золото и свои заговоры.
— Им тоже в этом ничего, пока мы смирно здесь сидим и с хлеба на воду перебиваемся. Вернуться теперь нельзя: обещали камнями отогнать. Камень в оружиях не числится.
— Угм. Поварёшкой тоже убить можно, если как следует в висок нацелить, — согласилась Кардинена. — И что — так и будете с дочкой смиренников из себя разыгрывать? В том только и бунт, выходит — имя сменить.
— Чего ты от меня хочешь, ина командир?
А она в самом деле командир, подумал Сорди. Водительница Людей, такое имя эхом отдаётся мне ото всех здешних гор.
— Твоего прежнего и настоящего. Нет прокованной стали — сделай мне меч из дуба тысячелетней выдержки. Чёрного дуба. Или у тебя нет резцов: ведь они — запретное железо. Только не ради ли них ты в кузне пламя поддерживаешь? Ах, да тебе даже простым ножом пользоваться запрещено… Вот, от нас возьми. Сорди!
Он понял еще до того, как его позвали по имени. Бросил поводья, достал своего «волчонка» из потайной прятки, протянул Орхату. Не показывать, не отдавать в простоте душевной, подумал мельком. А сколько раз я это уже делал! Только теперь самое истинное для того время. Уж никак не простое и не простодушное.
Кузнец, однако, лишь покачал головой:
— Не возьмёт мой матерьял. И единой стружки не снимет — кусок лезвия враз отщепится.
— Нет. Мы его на кремнях Шерры точили. Всем стал хорош. Так, говоришь, ты вчерне работу уже сделал?
Орхат воззрился на нее, как на безумную. Потом расхохотался:
— Узнал. Только и узнал сейчас тебя — не глазами, нутром. Помнишь, значит, как такие мечи творятся? Семижды семь резцов нужно сменить, прежде чем малый ножик в дело пойдет. Он для самого тонкой резьбы пригоден.