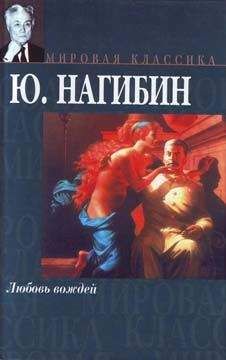А вот лучший писатель России выдвинул совсем новое и неожиданное предложение. Он спросил присутствующих: знают ли они роман Александра Беляева «Голова профессора Доуэля»? Романа никто не знал, но многие помнили одноименный фильм. Там головы умерших жили за счет раствора и электродов и ворочали мозгами. Голова же самого профессора Доуэля делала гениальные научные открытия. Нам не нужны ни тела недочеловеков, ни их головы со шнобелями, нам нужны их мозги. Русский народ-богатырь всегда жил широко и разгульно, не трясясь скопидомно над серым веществом. А евреи не пьют, не гуляют и всячески берегут свои извилины. Значит, надо их мозги отделять, присоединять к электродам, пусть они работают на обновление России, искупают извечную вину христопродавцев и новую — революционеров, а возле них будет обостряться русский ум.
У кого другого такое предложение могло бы и не пройти, ибо таилась смутная, но грозная опасность в обилии этих активно действующих еврейских мозгов: а вдруг они до такого додумаются, что обратят русских людей в рабство? Нечто подобное изображено в романе Герберта Уэллса «Борьба миров», там землю захватывают марсианские головы на железных треногах. Но Ефима Босых так любили и так ему верили, что аудитория почти единогласно проголосовала за сохранение еврейских мозгов при полной ликвидации остального телесного состава.
Это опять толкнуло мысль к срокам возмездия. Люди устали ждать. Страна испытывала дефицит терпения. Столько было всего наобещано: реформ, законов, благ, преимуществ, облегчений любого рода, а ничего ровнешенько не дали! Радужные посулы, обещания, заверения обернулись пшиком. Все тонуло в бесконечной, изнурительной болтовне. Хотелось действия, хотелось, чтобы хоть какая-то малость овеществилась — и не завтра, а сегодня, сейчас. Тщетно благоразумные головы убеждали потерпеть: еще немного — и перезрелый плод сам падет к ногам. Председательствующий покусывал бледные губы, он не хотел, чтобы ему диктовали сроки, не из самолюбия, амбиций, а потому, что решать должны не эмоции, а расчет. Сейчас были иные, насущные дела.
На беду, откуда-то вывернулся Савелий Морошкин, пыльный, грязный, с перьями в бороде и волосах, будто отлеживался на помойке. Но поди не дай ему слова! Властитель дум! Опять притащили ящик из-под пива, и опять он завел свою нуду о преступлениях евреев. Как ему самому не надоест?
На этот раз он старался ничего не пропустить. Евреи убили Столыпина, сделали Октябрьскую революцию, прикончили царскую фамилию, разгромили Добровольческую армию, уничтожили цвет русского офицерства, расстреляли Колчака, опрокинули в море Врангеля, ограбили крестьянство через продотряды, ввели нэп, повесили Есенина, застрелили Маяковского, провели коллективизацию и раскулачивание, создали ГУЛАГ, построили Беломорканал, Днепрогэс и Магнитку, снесли храм Христа Спасителя, развязали Вторую мировую войну, подкупив Гитлера, спровоцировали Освенцим и Бухенвальд, пытались отравить Сталина и всех его соратников на букву «Ш»: Шверника, Шкирятова, Штеменко, затеяли перестройку и гласность, развалили социалистический лагерь, уничтожили Байкал, Волгу, Аральское и Каспийское моря, взорвали Чернобыль, разрушили Берлинскую стену…
— А где были русские? — послышался из зала чей-то звучный, насмешливый голос.
— Как где? — опешил Морошкин.
— Ну где они были, когда евреи творили все эти чудеса? Где был маленький добрый народ, в какой щели скрывался? — измывался наглый голос.
Морошкин взвыл, дернулся, вторично полетел с ящика и пропал.
— Позор!.. Позор!.. — захлебывался зал.
— Мужчины!.. Где вы?.. Примите меры!.. — пронзительно закричала соседка Ивана Сергеевича — зеленоглазый Ежик.
Мужчины уже принимали меры. В углу зала шла потасовка. Потом толпа навалилась, кого-то сдавила, скрутила и потащила из зала. Иван Сергеевич так и не углядел нарушителя.
Но Председательствующий со своего места видел джинсового парня с молодой белокурой бородой и румяными скулами и посочувствовал ему. Его самого безмерно раздражала низкая, презренная манера валить все на пришельцев. Татары, поляки, французы, немцы, евреи… Кто был виноват в бесконечных русских бедах? Только не коренные жители страны. Они никогда ни за что не отвечали. Разве позволил бы француз считать кого-либо ответственным за дела своей страны, кроме французов? Да он бы со стыда сгорел. А у нас ни капли самоуважения, гордости — сломанный хребет, растоптанное достоинство. Сейчас этого смелого и симпатичного парня добивают в верхней уборной ЦДЛ. Глядя в зал холодными, спокойными глазами, Председательствующий спросил себя: а мог бы он расстрелять эту галдящую и кровожадную свору — своих сообщников? И ответил убежденно: с наслаждением.
Наверное, потому, что в жилах Председательствующего текла древняя кровь Долгоруковых, он был свободен от расовых предрассудков и расовых пристрастий. До недавнего времени он допускал, что можно будет вообще обойтись без погрома. Большой чести с евреями пока еще никто не нажил: ни Гитлер и его окружение, ни Рюмин с процессом врачей-отравителей, ни Герои Советского Союза: Насер и маршал Омар, ни шустрый король Хусейн, ни иракский вождь-президент, считавший, что атомная бомба у него в кармане, даже Эйхман не отсиделся в Южной Америке. Лозунги лозунгами, они необходимы, ибо укрепляют дух, дают перспективу, помогают решить множество побочных задач, но переход от слов к делу — другой вопрос. И лишь недавно он понял, что без великой резни не обойтись. Свое веское слово сказал вождь-президент Ирака. Он запретил нам принимать закон об эмиграции, чтобы уезжающие евреи не селились на оккупированных территориях. А без закона об эмиграции не могут быть получены торговые привилегии от США. Замкнутый круг. Нет, не замкнутый. Есть евреи — есть проблемы, нет евреев — нет проблем. Между советским народом и американскими товарами затесались евреи. Стало быть, от них надо избавиться. Тогда можно принять закон об эмиграции и к нам придет изобилие. Понимает ли это Буш? Кто его знает? Впечатление такое, что он вообще равнодушен ко всему, кроме собственного здоровья. Европейские лидеры Миттеран и Коль — амбициозные посредственности, которым безумно хочется войти в историю: первому — как создателю европейского дома, второму — объединителем Германии, — предадут евреев с той же легкостью, с какой предали Литву. Любопытно, что исторические примеры ничему не учат, призрак мюнхенского позора не остановил новоявленных Даладье и Чемберлена. Значит, евреи обречены. Но до этого ему надо решить несколько локальных задач: стать Председателем Патриотического онкоцентра и утвердить его платформу.
Расправа над бунтовщиком выпустила пар из толпы, и Председательствующий, пользуясь мгновениями расслабленного затишья, предложил выбрать главу Центра. Аудитория завелась с пол-оборота. Из тысячи луженых глоток прозвучало его имя. Пытаться сообщить происходящему хоть какое-то подобие парламентаризма было делом зряшным. Восторг, неистовство, радение, религиозный экстаз, слезы любви, крики «Ура!», «Виват!», «Слава!», «Хайль!» угрожающе раскачали люстру. Даже Аршаруни со своим матюгальником стал не слышен. И все-таки Председательствующий заставил их поднять руки, не поленясь спросить: «Кто за? Против? Воздержавшиеся?» — и упростил свое звание, став Председателем.
Поблагодарив избирателей за доверие и поклявшись быть до последней капли крови верным святому делу ПОЦа, он предложил утвердить платформу общества: Держава — Армия — Народность — Православие — Коммунизм.
Предложенный ассортимент был так разнообразен, что собравшиеся растерялись, а это входило в его намерения. И все прошло бы без сучка и задоринки, если б не Ефим Босых. Он не растерялся, ибо был застрахован от всех внешних воздействий глубокой и безостановочной внутренней работой. Он поднялся и молча пошел к трибуне, еще более мрачный, чем в начале заседания. Председателя кольнула мысль, что карасиный заступник слегка тронулся. Он и прежде не был весельчаком, а сейчас вовсе разучился улыбаться. В тени громадного выпуклого лба почти скрылся мысок усохшего личика. Мрачно сжатый рот раскрывался с видимым трудом, и это придавало угрюмую значительность его невразумительной, косноязычной речи. Председателя всегда изумляло, как может человек, так дивно сочетавший слова на бумаге, терять над ними власть в устной речи. Вот и сейчас, поднявшись на трибуну, он долго вертел в руках какие-то бумажки, прятал в карман, доставал снова, мял, иные рвал в клочья. У Председателя мелькнула надежда, что он забыл подготовленную речь. Нет, Босых убрал все бумажки, тоскливо посмотрел в зал, оглянулся на президиум и уронил мрачно:
— Отруба добавьте! — Вздохнул и пошел с трибуны под бешеные аплодисменты зала, не понявшего, что он имел в виду.
Но Председатель прекрасно понял. Босых не признавал ни одной русской революции, кроме крестьянской реформы 1861 года; царь-жертва Александр II был его солнцем, убиенный Столыпин — кумиром, а отруба — единственной формой хозяйствования, годной для русского мужика.