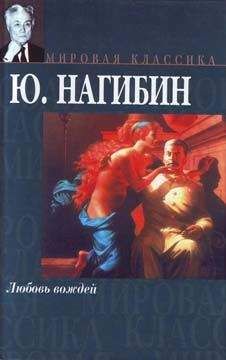— И у вас, Шеф, нет другого выхода. Вы все равно в это вмазаны.
— И она так говорила, — очень тихо произнес Шеф. — Мы, говорит, должны вместе: сперва я, потом ты. Она сильная. Ты видел когда, чтоб баба в рот стрелялась? Не было такого. А у ней рука не дрогнула. А я не смог. О детях подумал…
— Струсили, Шеф?
Тот долго молчал, прежде чем выдавил из себя:
— Не знаю, может, струсил… А может, другое. У нас разные вины, разный и ответ. Если честным, самоотверженным трудом…
— Не срамитесь, Шеф.
Афанасьич увидел эту комнату, какой она будет через некоторое весьма непродолжительное время: голые стены с гвоздями, костылями и квадратами невыгоревших обоев на месте картин, гравюр, рисунков, облезлый, мусорный паркет там, где лежали ворсистые персидские ковры, и на том же паркете следы антикварных шкафов, сервантов, диванов. Интересно, кому все это пойдет? Во дни Друга — было бы ясно кому, но тогда бы и Шеф не погорел. В народную сокровищницу слабо верилось. Скорей всего опять прилипнет к чьим-то хватким рукам.
— Чего оглядываешься? — спросил Шеф.
— Зря вы, Шеф, музей не открыли.
Тот задумался, вспоминая, потом махнул рукой.
— Слушай, Афанасьич, а ты не хочешь разрядиться?
Афанасьич глядел, не понимая.
— Чтоб не ржавело боевое оружие. Я оставлю записку, никого не винить.
Афанасьич по-прежнему не понимал.
— Я конченый человек, — сказал Шеф и заплакал. — Мне без нее не жить.
— Вон что!.. Это не моя работа, Шеф.
И мимо своего бывшего начальника и кумира тяжело, шаркая ногами, Афанасьич пошел к дверям. Выйдет через парадный ход. Таиться теперь ни к чему… В скором времени Афанасьич услышал о самоубийстве Шефа и вернул ему свое уважение. А любить его он никогда не переставал, даже обнаружив всю человеческую слабость.
Сейчас он глядел и думал: а какие они там? Тела съели черви, одежды истлели. Два белых скелета с оскаленными зубами. Если есть какое-то сознание за чертой, то Шефу хорошо. Она рядом, и никуда от него не денется, и делить ее ни с кем не надо.
— Ладно, пошли, — сказал он своему притихшему спутнику.
— Афанасьич, можно один вопрос? — робко сказал Иван Сергеевич. — Кем ты был при нем?
Афанасьич подумал и ответил коротко:
— Рукой.
Они перешли к другой могиле.
Афанасьич нагнулся и бережно положил букет алых роз на темную мраморную плиту. Над ней возвышалась фигура женщины из белого, просвечивающего мрамора; легкий свет высокого солнца, проникая сквозь кленовую листву, пронизал его в тонине рук, держащих склоненную голову, в складках прозрачной одежды — лишь эти складки обнаруживали покров на безгрешной наготе. За спиной женщины вздымалась черная гранитная скала; странная скала, похожая то ли на гигантскую сову, встопырившую крылья, то ли на человекообразное чудовище, готовое рухнуть на женщину. Сова или монстр — едино, то была гибель. Иван Сергеевич никогда не видел такого ужасного памятника. Ведь крест и всякое надгробие несут успокоение, тишину, примиряя с неизбежным, а эта черная напасть над белым ангелом повергала в смятение. Угроза, нависшая над женской фигурой, выплакивающей свое горе в тонкие ладони, должна о чем-то напоминать живым. О чем? О нашей хрупкости и незащищенности в мире? О судьбе этой женщины, принявшей страшную кончину? Имени покойной на памятнике не было, лишь глубоко врубленные в мрамор слова: «Матери — дочь».
Почему причастен к этой Божьей печали бывший оперативник Афанасьич, верная рука грешного и несчастного сановника, учинившего над собой казнь? Спрашивать Афанасьича он не станет — даже в пьяном виде, строго наказал себе Иван Сергеевич. Если Афанасьич захочет, то сам скажет, а лезть в чужую душу не надо. Наверное, тут покоится та, что была его великой любовью, недосягаемой звездой. «Длинный» человек Афанасьич, и не ему, исполнительному адъютанту, хлопотливой «хозяюшке» и лопоухому приближенному ушедшей власти, посягать на его тайны.
Афанасьич стоял над могилой, не забытой ни Богом, ни людьми, и глубоко, хоть необлекаемо словами, переживал свою причастность року. Он слышал легкий, приветливый голос, видел вздернутый нос под темной челкой, и до чего же грустно и хорошо ему было! В житейском неопрятном муравейнике совершилась на редкость чистая, четкая и, как яблоко, полная, завершенная в себе история. И участники ее оказались достойны друг друга…
Они вернулись на свое болото довольно поздно. Иван Сергеевич подвез Ивана Афанасьевича к дому и остался выпить кофейку. Перед кофе хозяин собрал легкую закуску и поставил графинчик с травником на калгановом корне. Эту настойку, именуемую «фирменная», он держал только для себя, принимая от сырости и ломоты в костях. Калгановый корень в их местах не водился, за ним приходилось ездить под Старую Рузу, на заветное место.
В этот день впервые — с большим опозданием против всей другой весенней природы — запел соловей. Дудка у него была слабовата и однообразна, а бой сильный, звонкий. Иван Афанасьевич послушал и заметил, что соловьи стали хуже петь. Школа не та. Старые мастера укрылись в крепь от многолюдья и транзисторного ора, и современная соловьиная молодежь поет без научения и дисциплины, как бог на душу положит.
— А все равно хорошо, — не согласился Иван Сергеевич.
К вечеру все растущее на земле густо и влажно запахло пробудившимися и забродившими соками, теплые волны набегали из леса, сиял пусть необученный, но все равно дивный голосок, и было так отрадно, как бывает только на земле, и уж никогда не будет, куда бы ни переселилась человеческая душа, если верить в ее бессмертие.
После того как выпили по одной и закусили осетриной горячего копчения, Иван Сергеевич спросил друга, верит ли тот, что Берия был английским шпионом. Взгляд Ивана Афанасьевича притуманился размышлением, он понял: вопрос не праздный. Так оно и было. Уже на кладбище, где Иван Афанасьевич был как свой среди милых могил, Иван Сергеевич почувствовал себя обделенным, словно человек, лишенный тени. Милицейскому оперативнику принадлежит держава воспоминаний, рядом с ним Иван Сергеевич — обрубок, лишенный корней и связи с прошлым.
И вот Афанасьич выдал ответ:
— Да никогда. Глупость какая.
— Я тоже говорю: глупость! — Иван Сергеевич никогда этого не говорил, даже думать боялся. — Нужно было ему шпионить на какую-то Англию. Что она вообще без колоний? Сибирский кот без шерсти, козявка. А он держал в руках великую страну.
— Да мало ли что болтают! Политика. Грязное дело. Все друг на друга валят. А возьми он верх, кто бы тогда ходил в шпионах? То-то и оно!
— Но женщин он любил, — пошел дальше Иван Сергеевич.
— А кто их не любит? — мудро ответил Иван Афанасьевич. — Положение позволяло, вот и любил.
Иван Сергеевич таял от восторга. Прежде его мучило, что он не только слова не замолвил за Лаврентия Павловича, но скрывал свою близость к нему, а ведь более восьми лет был он его доверенным лицом. Не в политике, разумеется, и не по Госкомитету, которым тот тогда не руководил, а в быту, но все равно он неотлучно находился при нем в домашних условиях. Каких только собак не навешали на Лаврентия Павловича, а все хорошее, что он сделал, замалчивается. А кто отвечал за атомную бомбу, кто дал ее народу? Забыли? Сталин вызвал его в Москву в самый разгар ежовщины, когда ежовые рукавицы душили без разбора врагов народа и честных, преданных коммунистов. Даже Сталин растерялся перед этим безудержным террором, а приехал Лаврентий Павлович и живо навел порядок. Прекратил казни и репрессии, и сам Ежов получил по заслугам. Конечно, у него были ошибки. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. А у Молотова, перед смертью восстановленного в партии, их разве не было? Всем известно, что Молотов приказал расстрелять жен репрессированных видных коммунистов. Погубил женщин, которым грозил лишь лагерный срок, и сроду не пожалел об этом. А свою Жемчужину-заговорщицу, жидомасонку, спас от расправы. Спокойно пересидел опалу в правительственном доме на улице Грановского, аккуратно отчисляя партийные взносы со своей пенсии, и дождался звездного часа. А христопродавец Каганович, разрушивший храм Христа Спасителя? Ему пока еще партийный билет не вернули, но живет не тужит в хорошей квартире на Фрунзенской набережной и козла забивает. Говорят, чемпионом двора стал. Добился по старым связям, чтобы навес от дождя сделали, теперь стучат костяшками при любой погоде. Почему же Лаврентию Павловичу за всех расплачиваться? Даже имени его вслух произнести нельзя; попробуй признаться, что ты у него работал!.. А он храмов не разрушал, на жидовках не женился, и надо же — в английские шпионы записали! Все знают, что это глупость, бред, злостная клевета, и молчат. Афанасьич и тут оказался с понятием, до чего же прямой и справедливый ум! Этот день еще сильнее скрепил дружбу отставников…