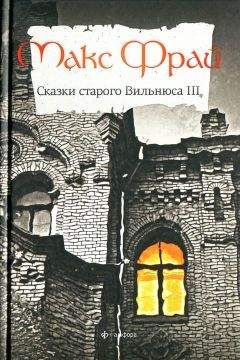Шестьдесят первая рыба раскрашена как арбуз, шестьдесят вторая — прозрачная, и сквозь нее видно, как течет вода и плывет другая рыба, шестьдесят третья по счету. Шестьдесят четвертая рыба вспорола себе брюхо и теперь с недоумением разглядывает собственные внутренности. Она не самурай, она — естествоиспытатель. И всем нам живой пример.
В итоге, конечно, позвонила. И даже не перед самым отъездом, а за целую неделю до него. Молодец. Храбрая тетка. От-ча-ян-на-я.
Трубку взяла Лена Львовна — не сестра, а жена, такая уж они идеальная пара, что даже отчества одинаковые.
Конечно, рыжая. Маленькая золотоглазая фея-лиса, говорливая и улыбчивая, способная накормить дюжину мужниных учеников одним батоном и засохшим краешком сыра. Батон надо нарезать очень-очень тонко, а сыр потереть на мелкой терке, аккуратно присыпать им хлеб и отправить на противне в духовку. Чем тоньше нарежешь, тем больше получится порций. Если очень постараться, каждому голодному гостю достанется целых три, а то и четыре сырных сухарика, и этого окажется достаточно, чтобы с благодарностью вспоминать тебя всю жизнь, особенно когда сыновья повадятся приводить домой оравы одноклассников, а в кладовых — шаром покати, как всегда.
«Илона, девочка, конечно я тебя помню, — торопливо говорила Лена Львовна, — как такую забыть. И картинка твоя, где море и слон, до сих пор висит у нас в спальне. Первое, что я вижу, когда просыпаюсь. Каждое утро, уже тридцать без малого лет, а ты говоришь: „наверное, не помните“, — вот хороша я была бы!»
И такой же птичьей скороговоркой: «А Йонас Львович сейчас в больнице», как гром посреди ясного неба. И после этого какое-то время в голове была звенящая тишина. И не только в голове, везде. Внутри и снаружи.
В больнице! С чего вдруг? Какая больница, зачем? Что за ерунда, с ума все сошли. Так не бывает.
«Конечно навести, он будет рад. А радость, говорят, лечит. Хорошо бы! От лекарств, знаешь, толку немного…» Лена Львовна говорила и говорила, но все это уже не имело значения, особенно после осторожной, круглой, гладкой, ядовитой, как пирожок со стеклянной начинкой, фразы «не самый хороший прогноз».
Все мы тут взрослые люди и прекрасно знаем, что это означает: «не самый хороший». Хотя, конечно, предпочли бы не знать.
Жизнь, которая до сих пор казалась просто очень страшной, вдруг стала совершенно бессмысленной. Какой, ко всем чертям, смысл, если Йонас Львович в больнице? Такие, как он, не должны лежать в больницах с дурацкими «не очень хорошими» прогнозами. И стареть такие не должны, и тем более умирать. Потому что это же форменный конец света, не зря, выходит, его обещают в двенадцатом году. Не будет мир стоять без Йонаса Львовича, и земля наверняка перестанет крутиться, я бы на ее месте точно перестала, потому что — а толку?
В брюхе шестьдесят девятой рыбы компас, чтобы всегда плыть строго на север, имя ей будет — Адмирал Чичагов.[9] Или, к примеру, Жаннетта[10] — если девочка. А семидесятую рыбу просто раскрасим как радугу, и довольно с нее.
Семьдесят первая рыба смотрит на рыбу-радугу, по-детски распахнув рот. Она, похоже, счастлива. И скоро найдет клад.[11]
Думала: ни за что не пойду в больницу. Не могу, не хочу. Вот увижу его там — больного, дряхлого, в палате, на койке, в капельницах каких-нибудь жутких, и тогда — вообще все! Что именно «вообще все» — не могла, конечно, сформулировать, даже для себя. Но была натурально в панике.
Думала: учителя не должны умирать. Когда умирают родители, это очень больно, но как-то… понятно. И предсказуемо. Мы с детства знаем, что родители когда-нибудь умрут. И худо-бедно уживаемся с этим знанием, а когда страшное наконец случается, выясняется, что мы к этому вполне готовы — насколько вообще возможно быть готовым к смерти, которая после ухода старших становится ближе. Настолько ближе, что иногда удается пихнуть ее локтем в бок. Оттолкнуть.
Но поди подготовься к смерти человека, который только притворялся, будто учит тебя рисунку. А на самом деле учил бессмертию. На его уроках нам всем, каждому в свой срок, вдруг становилось понятно: пока рисуешь, ты бессмертен. Бессмертен, господи боже, быть бессмертным — это, оказывается, вот так.
И даже если потом это ощущение пропадет навсегда, можно сказать себе: это только со мной случилась беда. Это я — дура, все прохлопала, профукала, упустила. Но это вовсе не значит, будто со всем миром произошла катастрофа и теперь бессмертия нет вовсе — ни в каком виде, ни для кого. Оно есть. И этого достаточно — не для счастья, конечно. Но для того, чтобы жить дальше, достаточно. Вполне.
Думала: что я буду делать теперь, когда увижу учителя слабым, больным, бормочущим невнятное? Когда увижу его — давай называть вещи своими именами — умирающим. И как стану жить потом, когда он умрет? Смертной тварью, хлопочущей лишь о прокорме, среди других смертных тварей, озабоченных тем же? В мире, лишенном смысла? Без веры, которой никогда не было, без надежды, которая была всегда? И что я скажу детям, которых сдуру привела в этот глупый, тошный, нелепо устроенный мир? Разбирайтесь с этим сами, мальчики, я — пас?
А что еще скажешь.
Семьдесят шестая рыба — зеркало. В ее выпуклом боку отражается лицо ошалевшей от собственной удали художницы. Ай, хороша ты сейчас, мать. Ей-богу хороша.
Но не навестить Йонаса Львовича в больнице было еще более невозможно, чем навестить. Пошла, конечно. Куда деваться.
Все было примерно так, как представляла, заранее содрогаясь: душная палата, тяжкий запах, больничная койка с подъемником, паутина капельниц, почти прозрачные старческие руки учителя с желтыми ногтями и лазурными клубками вен.
Так да не так.
Сам Йонас Львович не был похож на обычного умирающего старика. Наоборот. Теперь, когда тело его пришло в негодность, неукротимый дух, прежде проявлявшийся лишь во взглядах и жестах, окончательно вырвался наружу и бесцеремонно заполнил все пространство. И правильно, чего стесняться.
Приподнялся на локте, улыбнулся, сказал: «Та-а-ак. Вернулась домой. Молодец».
И сразу стало ясно, что можно ничего не говорить. В смысле не рассказывать, как глупо и бессмысленно жила все эти годы, как ежедневно отщипывала от себя по кусочку в надежде, что не убудет, как разменивала драгоценный дар на мелкие монеты, покупала жизнь для себя и детей, как однажды, почти десять лет назад, обнаружила, что больше ничего не осталось, и с тех пор не прикасалась не то что к кистям — к карандашу. Даже для заработка. В гробу мы видали такой заработок. Освоенный между прочими делами компьютер и хорошо подвешенный язык (целых четыре отлично подвешенных языка) кого угодно прокормят. И, слава богу, больше никаких картинок, никогда, ни за какие коврижки. Потому что — невыносимо. Жалкое подобие упущенного счастья, тошнотворная жизнь после смерти, беспомощное вранье.