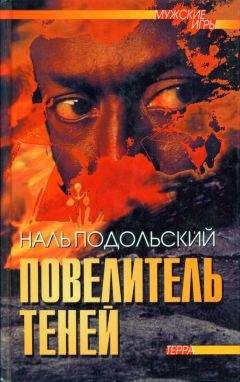Добросовестно следуя инструкции Одуванчика, я добрел до центральной площади и проник в кабинет редактора «Черноморской зари».
— Кого я вижу! — завопил он отчаянно, едва я приоткрыл дверь; на лице его заколыхалась улыбка, словно вода в резиновой грелке.
— Кого я вижу! — проорал он еще раз. — Редкий, редкий гость!
Пока я умещался в вертящемся кресле из белого пластика, он следил за мной счастливым и укоризненным взглядом, как если бы его посетил любимый непутевый племянник.
— Он курит, я помню, он много курит! — Приходя в восторг от этого моего порока, он дергал и тряс ручку ящика, тот наконец подался со скрипом и выдвинулся противоестественным образом рядом со мной, снаружи стола — на дне ящика — пестрели сигаретные пачки.
— Не эту! Не эту! — Он возбуждался все больше. — Американские! Там, в углу!
Дождавшись первых колец голубого дыма, он мечтательно проследил, как они уплыли наверх, и радостно объявил:
— Я терпеть не могу табака! Меня прямо тошнит от него! — Не слушая моих извинений, он потянулся к стене и щелкнул выключателем.
Все пространство заполнилось стрекотанием и хлопаньем лопастей, пять или шесть вентиляторов жужжали и пели на разные голоса, устраивая вокруг меня миниатюрный циклон. Дуло со всех сторон, даже откуда-то из-под кресла, на столе с громким шелестом трепыхались бумаги, дым моей сигареты исчезал в этом тайфуне, прежде чем я успевал его выдохнуть. Мне почудилось, что весь кабинет, подобно диковинному дирижаблю, парит уже над землей и вместе со мной, с редактором, с его сигаретами, полетит сейчас над степью и морем, подгоняемый буйным ветром.
Редактор смотрел на меня, подперев щеки руками, и получал несомненное удовольствие; я решил, что можно перейти к делу.
— Как? Лаборатория? Анализ воды? — Улыбка его всколыхнулась волной удивления, постепенно утихшей, лицо разровнялось и стало задумчивым, как блюдце с водой, простоявшее долго в спокойном месте. — Нет! Чего нет, того нет! И не ищите!
— Неужто и в школе нет кабинета химии?
Его передернуло, и морщины прорезали наискось кожу лица, словно за ней повернулось нечто массивное, твердое и угловатое, вроде литои стеклянной чернильницы.
— Кабинет есть. Но учитель!.. Никуда не годится. Псих, клинический! Он вам не поможет.
— Но мне нужны простейшие реактивы. Самые простые вещи.
— Он и простых вещей не может. Чокнутый!.. Да у него все пробирки давно перепутаны.
— Это пустяки, я разберусь.
С сомнением склонив голову, он повернулся в кресле. Взгляд его направлялся на верхние полки книжного шкафа, где я увидал с удивлением белую кошку, спящую на пачке бумаг.
— Попробуйте! Но уж если что выйдет не так, то покорно прошу, на меня не обижайтесь… Вот та улица, за рестораном. Школа — дворов через десять. И поменьше с ним говорите. Пакостник!
— А что он делает?
— Все! Все делает! Всюду суется! Все вынюхивает! Вообще лучше с ним не разговаривайте!
С этим напутствием я и ушел, и он на прощание поколыхал мне любезно лицом.
Когда я уже был на площади, от редакции долетел приглушенный крик:
— Кого я вижу! — туда входил следующий посетитель.
В ресторане гремели посудой, швейцар только что отпер дверь и вынес на крыльцо табуретку, символ его присутствия на посту и одновременно оповещение горожанам, что ресторан действует. Вид ее подсказал мне способ оттянуть свидание с Одуванчиком.
По случаю субботнего дня бар открылся с утра. Лена уже работала, то есть сидела за стойкой со штопором и книгой в руках. Для меня она ее отложила, механическим рассеянным жестом выдернула бутылку из гнезда холодильника и поставила передо мной. Этикетка — сухое вино — выражала ее точку зрения, что именно прилично пить по утрам в одиннадцать.
— Что мы читаем? — спросил я, как мне казалось, беззаботно и весело. Но, по-видимому, вышло фальшиво: она оглядела меня, словно врач пациента, округлым движением убрала бутылку и выставила другую, теперь с коньяком.
Я невольно загляделся на ее губы — в меру полные, точно очерченные и яркого розового, чуть оранжевого цвета. Следов помады как будто не было.
Она наклонилась вперед, слегка запрокинула голову и, опустив ресницы, подставила себя моим взглядам, как подставляют лицо дождю или ветру.
— Цвет натуральный, — она снова выпрямилась, — это у нас семейное, у бабушки были такие губы до самой смерти… и даже в день похорон.
В ее руке, как у фокусника, возникла сама собой рюмка; ее ножка коротко звякнула о стекло стойки, отмечая конец вводной части беседы.
— Вторую, — потребовал я.
Укоризненно покачав головой, она таким же загадочным способом добыла еще одну рюмку; второй щелчок означал, что пора поговорить обо мне.
— Вы пришли о чем-то спросить…
Спросить у нее?.. О чем?.. Чепуха какая… хотя… можно спросить…
— Что бы вы сделали, если бы вам предложили съесть лягушку?
Она нисколько не удивилась, не раздражилась нелепостью вопроса и не стала ничего выяснять дополнительно, а просто заменила мою рюмку стаканом. Это был ловкий трюк — она показала его уже вторично — убрать одну вещь и, взяв неизвестно откуда, из воздуха, поставить на ее место другую, и все это одним-единственным плавным движением. Да и способ изъясняться — с помощью бутылок и рюмок — тоже был недурен, своего рода профессиональный жаргон.
Она снова оглядела меня, но теперь уже не как врач больного, а как профессор студента, перед тем как в зачетке проставить отметку, налила мне почти полный стакан, себе рюмку, и убрала бутылку вниз.
Интересно, что мне поставили… это не двойка и не пятерка… если бы двойка, было бы полстакана, а если пятерка, бутылку бы не убрали…
Взяв свою рюмку, она уселась пить поудобнее, поставив ноги на что-то под стойкой, и колени ее приходились теперь как раз против моего носа. Я смотрел вдаль, близкие предметы двоились, и я видел четыре колена в ряд, четыре круглых красивых колена, как на рекламе чулок. Но вскоре их стало два, и я слишком уж хорошо чувствовал цвет ее кожи — цвет топленого молока, и ее теплую упругость. Она же считала, видимо, интерес к своим коленям законным и смущения не испытывала.
— Летом плохо в чулках, — она с сожалением погладила ноги ладонями, — а директор настаивает… говорит, пусть лучше кухня обрушится, чем барменша без чулок.
Покончив с сигаретой и коньяком, я встал.
— Ну вот, — сказала она медленно, — я немного вас развлекла… моими губами и коленями… что еще есть у женщины, — она тоже встала и, протянув руку, стряхнула с моего рукава пепел от сигареты, — что-то вас беспокоит… но плохого с вами не будет, если захотите, расскажете вечером.