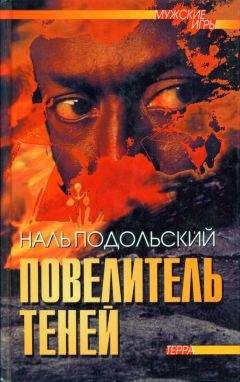Для начала Одуванчик отказался отпереть школу, утверждая, что для обыска в учреждении требуется санкция директора. В ответ Крестовский спросил, знаком ли Одуванчик с директорской подписью, — оказалось, она уже имелась в углу ордера.
В химическом кабинете майор нашел все, что искал. Прежде всего была изъята еще одна бомба, то есть точно такой же ящик, на каком я однажды катался в Одуванчиковом мотоцикле.
Потом майор стал допытываться, чего и по скольку Одуванчик клал во взрывчатку, и, прежде чем тот сообразил, что к чему, приставил сержанта взвешивать остатки химикалиев из пакетов и банок. Тут Одуванчик начал спорить, кричать и брызгать слюной — выходило, что истратил он всяких веществ не меньше чем на три бомбы, — но протокол все-таки подписал. Пакеты и банки на всякий случай были арестованы.
А в конце обыска разыгралась безобразная сцена, которую я не берусь точно воспроизвести. Одуванчик пытался наброситься на майора и так бесновался, что сержанту пришлось показать ему наручники, после чего он, сгорбившись, уселся в углу, смотрел на нас бессмысленно выпученными глазами и не отвечал ни на какие вопросы. Взбесился он из-за того, что майор заодно с банками прихватил и все его папки с заметками о кошачьих делах. Ордер Крестовский составил предусмотрительно, там значилось: «Взрывные устройства, материалы и средства для их изготовления, а также материалы, проливающие свет на мотивы преступления». В качестве последних и были изъяты архивы Одуванчика.
В заключение Одуванчику, как подследственному лицу, майор вручил предписание о невыезде, в условиях карантина чисто символическое. Одуванчик сначала отшвырнул его от себя, а затем взял и расписался на корешке, добавив к подписи загадочную фразу: «Повестку получил с удовольствием и буду жаловаться».
Когда сержант и ефрейтор, нагруженные добычей, направились к автомобилю, Крестовский подошел к Одуванчику:
— Лаврентий Сысоевич, у меня к вам частный вопрос, не для протокола.
Глаза Одуванчика, казалось, остекленели, и было неясно, слышит ли он что-нибудь.
— Если вопрос вам покажется странным, можете не отвечать… это уж как захотите. Скажите, пожалуйста, в течение последних двух месяцев вам часто снились… кошки?
— Эк он его, — прошептал редактор, — психолог!
Одуванчик продолжал сидеть, съежившись, и я думал, ответа не будет, но внезапно он всхлипнул:
— Издеваетесь?! Не имеете права! — и, вскочив на ноги, заорал сиплым детским голосом: — Вон! Вон! Убирайтесь вон!
Редактор спешил, и майор приказал сперва отвезти его, а после уже доставить в отделение вещи, изъятые у Одуванчика. Насколько я знал майора, это значило — он хочет со мной говорить.
Машина уехала, но он медлил начать разговор, что-то обдумывая, и вообще, по виду, чувствовал себя неуверенно. Я решил, что он удручен скандалом во время обыска, но нет, оказалось, его мысли заняты совершенно другим:
— Вот вам загадка, профессор: почему именно Совин начал копаться в делах этих кошек? Сколько людей в городе, почти десять тысяч, — только один школьный учитель… тут уж можете мне поверить — действительно, только один. Умом не блещет, знаете сами. Отчего бы это — жил, жил человек, как все, и вдруг, ни с того, ни с сего, прозрел… отчего бы это?
— Ну а вы?
— Я другое дело. Приехал со стороны, свежий взгляд, значит. Кошек с детства терпеть не могу, а тут, смотрю — заповедник. Думаю, дай, для начала хотя бы, в отделении истреблю. Не выходит. Ищу причину — вот так и додумался… А вот Совин — ему-то как пришло в голову?
— Он шизофреник и, по-моему, близок к сумасшедшему дому — вот и пришло в голову.
Он не обиделся и даже как будто не заметил резкости замечания.
— Вот, вот… и я думал так же… но сейчас меня мучает… очень мучает мысль… а вдруг они сами его надоумили?.. Все, что нужно, изучено… сеанс наблюдения кончен… пора заметать следы… и на эту роль приглашают учителя химии, не всякий ведь смастерит бомбу… а когда он все сделает, его упрячут в психушку… Чистая работа!
— Хорошо, а куда девать вас, например?
— Может быть, я у них лицо непредусмотренное. А может, и меня они надоумили, и на меня уже что-нибудь готово… и на вас тоже. Вдруг они просто для развлечения из нас комедию устраивают? Играют в нас, вроде как в шахматы?
Бред… начинается бред… остановить его надо…
— Если вы это всерьез, плохи ваши дела!
— Ха, да вы рассердились! Это хорошо… только вы зря намекаете, мозги у меня в порядке… а что всякая дрянь мерещится, это другое дело… сны дурацкие снятся, никогда раньше не было… Поверите ли, такая мерзость: только спать ляжешь — тут же три рыла, не то свиные, не то кошачьи, одни рожи, без туловища, или хуже того — одни глаза, как блюдца, сквозь одеяло просвечивают… качаются надо мной, ждут… а в ухо кто-то бормочет: встать, суд идет… трибунал, трибунал… До чего становится пакостно: поднимаюсь, стакан коньяка и снотворное…
Для чего это он… чтобы и мне то же самое… надо, чтобы он замолчал… безумие заразно… заразно… есть у него свой вирус…
— Это нервы, усталость и нервы, — перебил я его, — внушите себе наконец, что все это ваша выдумка, химия вашего мозга!
— Спасибо, что объяснили, с учеными не пропадешь… я и сам знаю, что нервы, что же еще, как не нервы… да хитрость-то вот в чем: я ведь думаю, что встаю за снотворным, или открыть форточку, или еще что… но встаю все-таки — значит, своего добиваются… снова ложусь, засыпаю… а у них там дело идет… шелестят бумаги… кого-то допрашивают…
— Замолчите, вы сумасшедший! Там ничего нет! Понимаете?! Там ничего нет!
— Не нужно кричать на всю улицу, пан профессор. — Его лицо замкнулось в спокойной и жесткой улыбке. — Вот вы и попались! Слово «там» признаете, значит?.. Это уже полдела, а дальше пустяк — рано ли, поздно, что-нибудь «там» увидите, не сомневайтесь.
Ну и улыбочка… сдержанная, а сколько жестокости… где-то уже я эту улыбочку видел… вспомнить бы…
— Пить нужно меньше, — сказал я зло, — а не то и черта с рогами увидите!
Что же я… это ведь хамство, так разговаривать… словно кто за язык потянул…
— Извините, майор, я нечаянно… у меня тоже нервы…
— Вот, вот, нервы… я же не спорю… — пробормотал он, глядя на что-то у меня за спиной.
Я невольно обернулся назад — улица была пуста.
Он постоял еще с полминуты, словно бы в нерешительности, и пошел прочь, а я подумал — как же ему будет скучно, когда карантин снимут и вся история с кошками забудется.
22
Ветер исчез, и тучи, которые он гнал с моря, повисли цепью над городом. Солнце, пытаясь их растопить, обжигало землю бесцветными лучами, и небо закрылось белым горячим туманом, словно там, наверху, лопнул гигантский паровой котел. Воздух, густой и липкий, приклеивал к коже одежду, и я поминутно отдирал от шеи воротник рубашки.