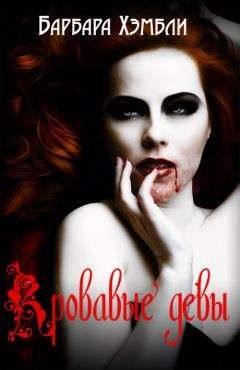Темнота, таившаяся в этом уголке ее сознания, была чернее и страшнее монастырских подвалов, и Лидия, повторяя вчерашний путь, отвернулась от мысли о потерянном ребенке и захлопнула за собою дверь.
Держись подальше оттуда…
Точно так же она отворачивалась от уже не раз закрадывавшегося подозрения, что она, возможно, снова беременна и носит в себе ребенка. Не позволяй себе надеяться, чтобы потом не впасть в отчаяние…
— Pardonnez-moi, Madame.[21]
Лидия чуть не подскочила на месте, когда горничная Алиса внесла лампу.
— Ce ne’est rien.[22]
Благодаря щедрой поддержке правительства, последние несколько десятилетий всячески способствовавшего распространению образования, немалая часть русской молодежи овладевала французским языком, который особенно ценился среди молодых девушек, желавших поступить на службу горничными. Может быть, им и пришлось бы терпеть какую-нибудь мадам Муханову, но после того, что Лидия видела в петербургских трущобах и слышала от Ивана и Разумовского об условиях работы на фабриках, она могла понять, почему женщины охотно соглашались подбирать за хозяевами чулки и выносить ночные горшки: так они хотя бы могли каждый вечер наесться досыта.
— Простите, — Лидия встала, вдруг осознав, что она пропустила поданный Риной ужин — Боже, когда это было? — и от этого у нее болит голова.
За окнами было совсем темно. Из-за этих бесконечных вечеров невозможно было понять, какой теперь час…
— Я совсем забыла о времени. Пожалуйста, передайте Рине мои извинения.
Горничная коротко улыбнулась:
— Рина не станет подавать еду, пока мадам не сядет за стол. Дело не в этом. Вас хочет видеть некая молодая дама. Она говорит, это срочно.
— Молодая дама? — Лидия машинально сняла очки и, зажав их в ладони, последовала за горничной в длинную гостиную, где принимали гостей. По пути она пыталась вспомнить, кто из участниц Круга Астрального Света до сих пор был незнаком Алисе.
Когда Лидия через дверь спальни вошла в освещенную лампами комнату, находившаяся там девушка присела в реверансе. Лицо в форме сердечка и густая масса темных волос казались незнакомыми, поэтому Лидия снова надела очки, чтобы лучше рассмотреть гостью: темные глаза, полные губы, тонкие черты лица, свидетельствующие о небольшой примеси южной крови…
— Чем могу быть вам полезна? — спросила Лидия по-французски. — Я — мадам Эшер…
— Да, мадам, я знаю, — девушка подняла на нее взгляд, и при этом движении свет лампы отразился в темных глазах, превратив их в два желтых зеркала.
Лидия оцепенела, словно шагнув из тепла комнаты в холодную зимнюю ночь.
— Вы называли свое имя в монастыре, я слышала, — продолжила гостья. — Когда звали Колю. А местные мне сказали, что на кучере были цвета князя Разумовского. Говорили, что у него остановилась английская дама…
Губы девушки, при всей их милой полноте, даже в теплом золотистом свете масляной лампы были лишь немногим темнее ее мраморно-белого лица. Когда она заговорила, Лидия заметила клыки.
О, Господи…
— Мадам, пожалуйста, — девушка умоляюще протянула руки и тут же быстро продолжила, словно вспомнив о манерах, — Меня зовут Женя… Евгения Грибова. Я живу на Политовом дворе, рядом с железнодорожными мастерскими… то есть жила… раньше… До того, как…
На мгновение на полудетском личике проступило выражение горя и ужаса, совладать с которыми удалось лишь через несколько вздохов. Хотя Лидия уже заметила, что девочка не дышит.
— Мадам, что со мной произошло? Со всеми нами? Вы сказали Коле, что можете ему помочь. Я… я знаю, что нам запрещено покидать монастырь, что Господь покарает нас, но Коля…
— Коля — это тот юноша у входа в подземелья?
Женя кивнула. Она дрожала, темные глаза, пугающие отраженным блеском, наполнились слезами. Лидия присмотрелась к одежде девочки: выцветшее платье не по размеру, отделанное дешевой тесьмой, тоже потертой и вылинявшей. Так ходили сотни девушек в бедных кварталах Лондона, Парижа, Петербурга…
— Он изменился, — шепнула Женя. — И я тоже начинаю меняться. Вот, посмотрите.
Она стянула заштопанные перчатки и расправила пальцы, чтобы показать похожие на когти уплотнившиеся длинные ногти, гладкие, как стекло, но по прочности превосходившие сталь.
— Мадам сказала…
— Какая мадам?
— Эренберг. Мадам сказала, что мы — избранные и наша вера преобразит нас. Сам Господь изменит нас, чтобы мы сражались с демонами, так она сказала, — на мгновение она поднесла руку ко рту, к дрожащим губам — возможно, чтобы скрыть то, что уже видела в зеркале. Если только мадам Эренберг позволяла им смотреться в зеркала. — Но Коля… и он не один такой. Я пробыла там три недели, и мадам Эренберг и доктор Тайсс обещали, что все будет хорошо, потому что мы в руках Господа, но кое-кто…
Девушка понизила голос, словно опасаясь, что заполнившие комнату тени могут ее подслушать:
— Она сказала, что мы сможем сражаться с демонами. Что мы спасем наши семьи и снова сделаем мир единым. Но, мадам, мне кажется, что кое-кто из нас сам превращается в демона. Что с нами случилось? Чем мы стали?
— Вы не знаете?
Женя покачала головой, по ее лицу текли слезы.
* * *
В половине третьего утра Эшер и женщина-вампир, которую звали Якобой, прибыли на ночном поезде в Бебру. В те дни, когда Кёльн еще был свободным городом в составе империи, Якоба была женой ростовщика и пользовалась признанием в кругах ученых людей и эрудитов. Вытащив Эшера из тюрьмы, вампиры отвели его в высокий фахверковый дом, где и бросили в цепях в неглубоком погребе, среди выстроившихся вдоль стен ящиков и бочек. Прежде чем хозяева унесли лампу, он успел разглядеть в стенах углубления, как в катакомбах. Сейчас там никого не было, но Эшер все же задумался над тем, скольким вампирам этот подвал служил гнездом. Сидя в темноте спиной к стене, он не осмелился заснуть, что было не так уж и плохо. Он знал, что, стоит ему задремать, и во сне он увидит оставшегося в тюремной камере француза, лежащего с перерезанным горлом в луже крови, которой было слишком мало для таких обстоятельств, и липкий нож, зажатый в руке у спящего немца.
Я бы не смог спасти их…
Он понимал это, но мысль, что они оба остались бы живы, не окажись с ним в одной камере, все равно не давала покоя.
— Это часть охоты? — спросил он, когда Якоба села рядом с ним на жесткую скамью в вагоне третьего класса. — Часть игры?
Женщина слегка приподняла брови — ее явно удивило, что он до сих пор думает о случившемся.
— Человек не умрет, если будет питаться хлебом без соли, — произнесла она чудесным контральто, звучание которого ощущалось как нежнейшая ласка. — Но люди все равно едят шоколад и французский сыр и пьют хорошее вино.
Она улыбнулась, сонно и удовлетворенно. Прежде чем убить седого француза, она разбудила его и весьма доходчиво дала понять, что сейчас ему предстоит умереть. Его смерть нельзя было назвать легкой.
По тому, как она смотрела на Эшера в дребезжащем сумраке душного вагона, он догадался, что вампирша предвкушает еще одно убийство — на этот раз кого-нибудь знакомого.
— Надеюсь, что не обману ваших ожиданий, если до этого дойдет, — вежливо ответил он, вызвав взрыв смеха, который полностью преобразил ее угрюмое лицо. — Не слишком-то приятно чувствовать себя vin ordinaire.[23] Расскажите мне о Петронилле Эренберг.
Она согласилась, поскольку ему удалось развеселить ее.
— Сучка, — начала она. — Как и сказал Бром… Тодесфалль. Вечно себе на уме.
Тот вариант немецкого, на котором говорила Якоба, давно вышел из употребления; кельнский говор в нем проявлялся сильнее, чем в речи рабочих, которых он слушал в трамвае три — или уже четыре? — дня назад. Для обозначения таких простых понятий, как соль и вино, она и вовсе использовала не немецкие названия, а слова из старого прирейнского диалекта французского языка.
— Знай я, что он собирается ввести ее в наш круг, сама бы ее убила. Пустая, как скорлупа от ореха, но неплохо управляется с деньгами, да к тому же разбирается в займах и вкладах — ее муж был большой шишкой в «Дойче банке». Брому это пришлось по нраву. К тому же хорошенькая, как раззолоченная бонбоньерка в розовых оборочках… к сожалению, Бром порою западает на таких.
Она сложила на коленях руки, затянутые в штопаные грязные перчатки, — кисти у нее были широкими, с короткими пальцами. Эшер настоял, чтобы они переоделись в потрепанную бедняцкую одежду. «Зачем все эти хитрости, если я просто могу отвести глаза немецким полицейским?» — спросила Якоба, когда поле бегства из кёльнской тюрьмы он попросил раздобыть обувь и обноски, подходящие какому-нибудь рабочему, а также бритву и тазик, чтобы можно было сбрить отросшую щетину, оставив на макушке лишь легкий пушок.