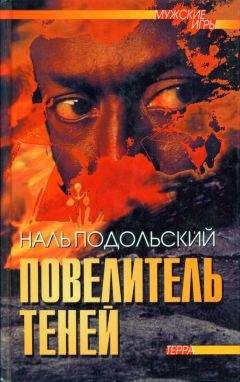Старуха сидит в углу, молчит, глядит исподлобья и все время себе в шампанское подливает зелье из фляжки. Подавиться бы вам… подавиться…
Поднимается: пора уезжать. На прощанье ковыляет к японцу:
— Ну что, много наторговал мертвых? — Хрипло смеется. — Почем платишь, басурманин, за душу?
Клювоносый — переводчику, тихо:
— Это можно не переводить.
Тот переводит. Японец вежливо шипит, широко и радостно улыбается.
— Господин Дзабацу заметил: чем знаменитее археолог, тем больше он имеет чудачеств. Господин Дзабацу уверен, что мадам — великий ученый.
— Врет, наверное, сволочь. — Старуха садится в машину, тычет в спину шоферу клюкой: мол, поехали восвояси.
Все расходятся, у всех есть дела. И у господина покойника тоже: ему нужно собираться в дорогу. Да, господин хранитель, господин покойник опять ведет подвижную жизнь.
Извлекаются из могилы кости, стряхивают с них пыль кистью, протирают влажною тряпочкой. Рот заклеивают липким пластырем — чтобы не выпали по пути зубы, глазницы и переносицу тоже — не сломались бы тонкие кости, длинные кости — отдельно, в продолговатый пакет, позвонки, ребра и таз — в большой квадратный пакет, кисти рук, кости стоп — в специальные маленькие мешочки.
Вот дорожный костюм господина покойника: груда пакетов, перевязанных аккуратно бечевкой, как в универмаге в отделе подарков. Их складывают в посылочный ящик.
Горе, горе мне! Плохо кости упали в игре, легли на несчастливую сторону. Слышу с запада страшные звуки — полосатое облако мчится, вижу — бродячей дырявой тучей плач и горе ползут с востока, с севера облачная громада с тяжким грохотом подступает, и пылает облако с юга, огне-желтое, словно охра, злобно каркает по-вороньи. Пора за дело, помощники, лицом к врагу повернитесь, распалитесь на него яростью яростной!
Тяжелый вечер, недобрый. Это чувствуют все, угрюмо расползлись по палаткам. Душно, словно перед грозой, а небо — без облачка, сухое, сероватое, пыльное. На горизонте зарницы.
Он лежит на спальном мешке, одет, будто ждет чего-то. В горле жжение, во рту сухо, беспокойно и даже страшно, неизвестно чего.
Она рядом, усталая, спит свернувшись калачиком и иногда вздрагивает, — видно, снятся тревожные сны.
То ли грезит он наяву, то ли спит… нет, не спит и не грезит… это что-то другое…
Просто — странная легкость, просто — тяжесть исчезла, и это слегка пьянит. Думает: можно подняться — и тут же поднимается вверх. Видит внизу свое тело, лежащее на спальном мешке, смотрит на него равнодушно, как на что-то чужое, ненужное. Рядом она, на нее — с жалостью. Проплывает сквозь полог палатки, как сквозь завесу дыма. Плывет над землей. Темно. Опускается, становится на ноги, идет, вернее, плывет, чуть приподнявшись над степью. Что-то ищет, что-то должен найти. Никак не вспомнить, что именно. Мучительно роется в памяти. Вспомнил: черный клубок. И тут же находит: вот он, лежит под ногами. Поднимает: какая тяжесть, придавливает к земле, чего доброго, свалит с ног. Теперь уж не поплывешь в воздухе, еле удается идти, как против ветра. Да, для невесомого и пушинка — тяжелый груз.
Шаг за шагом, с трудом. Останавливается передохнуть. Впереди цветное мигание, приближается звук — трепетание крыльев большой стрекозы. ОНО опускается, садится на землю, останавливается совсем рядом.
Он разглядывает: самолет из бамбука, обтянут шелестящим пергаментом, под крыльями — цветные бумажные фонари. Они мигают ему. Красная вспышка, желтая, две лиловых и снова желтая. Их язык почему-то понятен:
— Беспрекословное повиновение. Поднимитесь на борт самолета.
Он стоит неподвижно: нечто вроде паралича.
Фонарики терпеливо ему повторяют:
— Беспрекословное повиновение. Поднимитесь на — борт самолета.
Его воля тускнеет. Он делает шаг вперед.
На носу самолета — рожа: необъятных размеров рот и косые глаза.
Он подходит вплотную. Пасть разверзается, нижняя челюсть отпадает к земле: трап.
Он с трудом одолевает ступеньки. Рот захлопывается, самолет взлетает. Дребезжит тихонько пергамент, и в бамбуковых раскосах жужжит ветер.
А внутри совершенно пусто. Везде бамбук и пергамент.
— Есть здесь кто-нибудь?! Отзовитесь! — Нет ответа, лишь пение ветра.
— Отзовитесь же! Отзовитесь! — Он стучит кулаками в обшивку.
Гулкий гром барабана, и опять становится тихо.
Значит, это просто ловушка?! Летучая мышеловка? Он в бешенстве. Молотит кулаками в обшивку, пинает бамбук ногами, старается поломать хоть что-нибудь — но пергамент крепок, не рвется, лишь ревет, как сто барабанов.
Он в бессилии опускает руки. Чувствует на себе чей-то взгляд. И внезапно видит пилота. Пропадает, испаряется злоба. Как же он не заметил сразу?.. Оттого, что тот сидит слишком низко. На полу, на циновке, в самом носу самолета. Глаза большие, раскосые и такие печальные, что от их взгляда хочется плакать. Курит длинную трубку с крохотным чубуком. От нее черноватый дым и дурманящий пряный запах. Аромат цветущего луга.
Пилот медленно поворачивается, вынимает изо рта трубку и печально кивает:
— Осторожно, сейчас вы споткнетесь.
Не хочу спотыкаться… не буду… аккуратно, осторожно шагнуть…
Спотыкается, падает. Ощущения пропадают. Остается: я — это я, и еще — глухая тоска.
Открывает глаза: светло и кругом голубое небо. Перед ним на циновках двое, лица белые, дряблые, женственные, курят тонкие трубки и во что-то играют, наподобие шахмат. Какая тоска… безнадежная глухая тоска…
На доске происходит что-то. Фигуры медленно двигаются. Он приглядывается… это что же такое… как же так… на доске мечется черный клубок…
Сквозь тоску пробирается ярость. Разрастается, бьется в виски, застилает глаза. Ах, грабители, воры, да я вас!
Не может сдвинуться с места.
Появляется девушка — распущенные черные волосы и печальные большие глаза. Первая мысль: с тем пилотом они брат и сестра. Она очень красива. Склоняется в поясном поклоне, касаясь маленькими пальцами пола:
— Вас приглашают сесть и наблюдать за игрой.
Он садится.
Она приносит низенький чайный столик, опускается на колени и разливает чай.
Он разглядывает игру. На доске нет никаких клеток или делений, она резная, из черного дерева. О, да это рельефная карта! Вырезаны искусно горы, моря и реки, леса, города. Красивая старинная вещь… А фигуры престранные — кубики, пирамидки с человечьими головами и диковинные несуразные чудовища, то ли ящерицы, то ли жабы.
Играют лениво, фигур почти не касаются, да и то не в центре доски, а с краю, поближе к себе. Клубок мечется в середине и как будто пытается пробить брешь в кольце из фигур. Но его теснят пирамидки и кубики, обступают со всех сторон, и ему больше некуда двигаться. Клубок затихает.