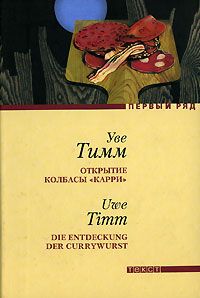И они оба рванули куда глаза глядят.
Гавейн бежал быстрее лани.
Быстрее, чем кролик от беркута. Быстрее, наверное, чем олимпийский чемпион — тому наградой был жалкий лавровый венок, а ему, Гавейну, его драгоценная, единственная и горячо любимая жизнь.
Он пролетел через корабельное кладбище, перепрыгивая шпангоуты и еще не растасканные аборигенами на топливо бимсы. Он обогнул пересохший фонтан у выхода из порта, увернулся от нагруженного корзинами грузчика, чуть не сбив того наземь, и нырнул в узкий переулок.
Остатками разума или, может, чутьем преследуемого он понимал, что только быстрота может его спасти. Где отстал и куда подевался Парсифаль — здоровяк и не заметил.
Не чуя под собою ног, летел Гавейн по лабиринтам старых переулков, пока не уперся в глухую стену.
Пару раз ударил в нее кулаками, словно пытаясь пробить дорогу наружу, а потом зарыдал, опустившись наземь.
Все пропало! Все пропало! Из-за этого белобрысого урода, этого германского дикаря! Из-за его дурацкой секиры!
А главное — из-за осла!
Теперь уже и Гавейну стало казаться, что он и сам видел проклятое животное на борту «Октавии».
Делать было нечего. Нужно связываться с командованием — только Ланселат или сам Арторий могли ему помочь
Шепча слова самых страшных проклятий и ругательств, Гавейн извлек из потайного кармашка заветный амулет — одну из тех полезных штук, которыми их снабдил Мерланиус. Чертыхаясь, разбил о камень стены предохранительную крышечку слоновой кости.
— Командор, вы меня слышите? Вызывает Гавейн! Как слышите меня?! Гавейн вызывает командора Ланселата…
— Так, так, пане Борута! — гоготал Будря, дружески тыкая лесного князя кулаком под ребра. — Бей меня Перкунас своими молниями!
Старый воин блаженствовал.
Наконец-то можно хоть немного расслабиться.
Самую малость.
Не хватаясь то и дело за боевой фамильный меч, не вздрагивая от каждого подозрительного скрипа и шороха, не прислушиваясь к невнятным всхлипам юного подопечного, одолеваемого ночным кошмаром.
Сидеть вот так за столиком, уставленным яствами и бутылками с добрым вином. Слушать соленые шутки и прибаутки козлорогого похабника.
— Тише, тише, пан, — шикал на него рыжий бес. — Детвору разбудишь. Пусть отдохнут, сердешные. Умаялись, чай, от ворогов лютых бегаючи.
— Да уж, — нахмурился лех. — Цо есть, то есть. Бедные дети!
Покусал ус и вдруг разразился проклятиями:
— Цоб мне больше не увидеть своего маетка! Пусть пан Мудря присоединит Большое Дупло к своим паршивым Козлиным Кучкам! Когда же все это закончится?!
— Как Темного Бога побьют…
— Ага, — покивал головой пан. — Или он нас.
На палубу вышел позевывающий Стир.
— Что, поэт, аль не спится? — обратился к нему, хитро прищурив желтое око, леший. — Может, налить?
— Ой, да ну его, это вино. И без него голова кругом идет.
Быстро перебирая ногами, длинноухий устремился к борту и начал блевать.
— Совсем как мой ясный пан круль, — вздохнул Будря. — Тот також качку не переносит. Еле заснул. Спасибо тебе за зелье. Помогло.
— Не на чем — помахал рукой его собутыльник. — Мы, лесные князья то есть, каждую травку знаем и ведаем, какой от нее прок аль беда человекам приключиться может. Вот и пользуем помалеху. Ежели, конечно, свой лик людям казать изволим, — добавил он.
— А цо, не любите нас?
— Не то чтобы совсем не любим. Но опасаемси. Зане как от вас многие порухи и безобразия нашему брату, лесным князьям то есть, терпеть приходится…
— Эгей, болезный, — повернулся леший к борту. — Тебе не пособить?
— Буль-буль, — ответил несчастный стихотворец.
— И вот чего никак в толк взять не могу, — продолжил козлорогий, послав пару мелких синих молний Стиру в хвост. — Отчего так: к своей домашней нелюди, ну ларам там, пенатам, домовым по-нашенски, вы вполне терпимо относитесь, а вот тех, кои в лесах да на воде живут, «чужими» зовете-величаете…
— Ну я, положим, не такой, — неуверенно почесал затылок Будря.
— Ведаю. Потому и не брезгую с тобой хлеб-соль делить. И парнишечка твой такой же, как и ты. Но Силы у него… Как у молодого бычка. Поостеречься бы надо. Не ровен час, не сумеет совладать.
Промочил горло.
— А наши девахи? Та, что потише да поскромнее, еще ничего. А вот сестрица ейная… Ох и язва же, ох и язва моровая. Ничего, пройдет дурость-то. Перебесятся. Но обе тоже Силой меченные. Не такой, как мальчонка, не тутошней, но тоже могутной.
— Як то так? — заинтересовался бравый вояка.
Леший отмахнулся:
— Тебе не понять, не суши голову.
Видя, что Будря насупился, словно грозовая туча, рыжий толстяк поспешил исправить свою оплошность.
— Их Сила рождена не на Гебе…
Глаза старого леха начали выкатываться:
— Бей меня Перкунас своими молниями!
— Не поминай всуе, — посоветовал леший. — А то ведь надоест старику, да стрельнет в тебя — костей не соберешь.
Будря с опаской уставился в безоблачное небо, не замечая довольной мины собеседника. Однако лех не собирался сдаваться.
— Слухай, пане, — снова приступил с расспросами царский телохранитель. — А коли не в нашем, то где? На Луне, что ли?
— Почему на Селене? Хотя…
— Яичница! — негромко вскрикнул Стир.
— О, наш артист опамятовел! — обрадовался леший. — Взалкал ужо!
— Слухай, пане, — тем временем вышел из ступора царский телохранитель. — А цо то ты мувил, цо Сила паненок не на Гебе уродзона? То где еще? На Селене?
— Почто на Селене? Хотя…
— Глазунья! — снова забормотал стихотворец. — Огромная-преогромная!
— Пан Стир, иди до нас. Тутай и яичница есть, и окорок, и доброе винко!
— Да нет! — нетерпеливо стукнул копытом о палубу длинноухий. — Я говорю, что яичница там, за бортом!
— Тьфу! — сплюнул в сердцах Будря. — Перечаровал ты, пане леший. Не туда свои молнии кинул!
— Ой, что это?! — не унимался Стир Максимус. — Гигантский глаз!
Вояке и козлорогому надоело это представление. Они живо поднялись и, нетрезво пошатываясь, направились к бредившему ослу с недвусмысленными намерениями унять его силой. Но едва подошли к борту, как весь их хмель словно рукой сняло.
Потому как из темной бездны на них пялилось… исполинское ОКО.
Оно и впрямь напоминало колоссальную яичницу-глазунью. С той лишь разницей, что желток не застыл в пропеченном белке, а медленно вращался по окружности.
— Цо то есть? — выдавил из себя помертвевший Будря.
— Не знаю, — также шепотом ответствовал леший. — Как бы не кракен-батюшка.
— Кр-кр-крак-кен? — заволновался Стир.
— Не каркай, будто ты не осел, а ворона! Нужно будить малышню. Без нее, коли что, не управимся.
На шум выскочил капитан.
— Что стряслось? — протирая заспанные глаза, поинтересовался он. — И что ваша животина делает на палубе?
— Пасусь! — вызывающе ответил поэт, повергнув моряка в священный ужас.
— Ты вот чего, паря! — хлопнул капитана пару-тройку раз по щекам козлорогий. — Не время щас на говорящих ослов пялиться. И не такое на белом свете бывает. Глянь-кась вон туды.
Ткнул пальцем в море за бортом. Капитан посмотрел… И кулем осел на палубу, потеряв сознание.
Рядышком за компанию прилег обеспамятовавший от потрясений Стир.
— Что морской волк, что осел длинноухий — все едино! — покачал головой лесной князь.
— Как, дева-воин, — обратился он к появившейся на палубе Орландине, — не желаешь ли и ты к ним присуседиться?
Амазонка нахмурилась. Этот косматый толстяк не переставал вызывать у нее глухое раздражение.
— Может мне кто-нибудь внятно объяснить, что здесь происходит?
— Пан Борута мувит, цо то може быть кракен, — поведал о грозящей напасти Будря.
Орландина перегнулась через борт.
— Хм, вполне возможно.
— Кракены об эту пору года обычно спокойные, — раздался у нее за плечом звонкий мальчишеский голос.
— Да и вообще на людей они редко нападают, — поддержала Кара всезнайка Орланда.
— Так, вижу все в сборе, — констатировала прознатчица, обозрев столпившихся у борта путешественников.
Стир с капитаном, уже пришедшие в себя, стояли чуть поодаль от других.
— У твоего рулевого нервы крепкие? — на всякий случай поинтересовался у моряка поэт.
— Как канаты! — гордо выпятил грудь хозяин корабля. — Я людей под себя подбираю.
— Ну-ну…
Тем временем рядышком с первым глазищем появилось и второе, такое же громадное. Желтки-зрачки вращались с немыслимой скоростью.
Холодные пальцы ужаса сжали сердца людей, находящихся на борту «Октавии». Все почувствовали приближение чего-то чуждого и непостижимого.
Орланда, упав на колени, воздела к темному ночному небу, усыпанному яркими звездами, руки с зажатым в них распятием.
Сестра посмотрела на нее с плохо скрываемой завистью. В эту минуту амазонка тоже страстно захотела иметь в душе хоть каплю искренней, не замутненной ничем посторонним веры.