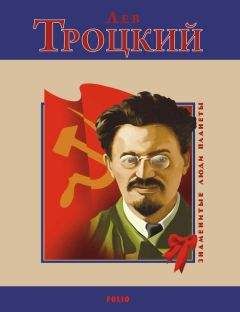В Новгороде Литвину польстило доверие князя, способствующее карьерному росту. Получив казну вышневолоцкого кровопийцы Недрищева, Лучезавр остался доволен и приказал всячески содействовать инициативам боярина. Князь использовал лукавый греческий приём метафору и назвал Щавеля иголкой, а дружинников ниткой, которые латают рваную рубаху Руси. Хитрость греческого изворота заключалась в том, чего князь не сказал, а Литвин мог лишь догадываться. Если Щавель игла, рассуждал сотник, а дружина нитка, посредником между ними является игольное ушко. Штука, безусловно, важная, но чувствовать себя пустым местом было досадно. Однако служба есть служба. Щавель тоже исполнял свой долг и делал это рьяно, только на особый манер, идущий вразрез с понятиями Литвина о законе, морали и воинской чести. «Варварски», — пришло на ум ещё одно греческое слово.
— Слушаешь меня?
— Так точно! — встрепенулся Литвин, пошарил руками по столу. Ему показалось, будто Щавель поймал его за мысли как кот убегающую верёвочку. — Виноват, задумался.
Сотник немедленно сунул ус в зубы и принялся грызть.
— Что-то ты нервный какой-то, — отметил Щавель и перешёл к делу. — Разжёвывать не буду, ты работу знаешь. Выделишь по тройке на каждую телегу. Сам сидишь здесь, командуешь. Если будут гонцы, отправляешь тревожную группу.
— В случае возникновения нештатной ситуации как быть? — постарался загладить свою невнимательность Литвин. — Допустим, особняк опять начнут громить?
— С этим справляется городская стража. Пока мы не закончим операцию, дружина занимается только ей, не отвлекаясь на постороннее, пусть даже тюрьма горит. Понятно?
— Так точно, — отрубил сотник, вливаясь в струю.
Участвовать в массовых ночных арестах ему доводилось со времён стажировки, хотя куда ловчее он проявлял себя в полевой работе с разбойниками, да на зачистке местности от просочившихся из Внутримкадья манагеров и иных опасных гадов. Литвин отлично знал свою профессию — Родину зачищать. И пусть ему не всегда нравилось, каким способом достигается результат, службой сотник гордился.
Из соседнего корпуса больнички донёсся истошный крик. Литвин вздрогнул. Вопль не прекращался. Человек орал и орал, будто его резали заживо.
Щавель деловито кивнул, будто учётчик, мимо которого пронесли на склад ящик с товаром.
— Всё понятно? Вопросы есть?
— Никак нет, — бодро отозвался Литвин.
Карп ничего не сказал. На угрюмом лице работорговца было написано «Брать!»
* * *
Понятыми были преподаватели Института растениеводства, муж и жена. Вопрос с разглашением тайны решился неожиданно просто. Многие подписанты жили семьями. У них был один круг интересов, единая работа и общий набор врагов.
«Как у эльфов, — думал Щавель, трясясь в темноте на чёрной тюремной телеге, идти было бы удобнее, но не позволял статус. — Только эльфы увлечены бесполезными теориями, сохранёнными с допиндецовых времён, а во Владимире люди учат людей насущному, что можно применить на практике и получить реальную отдачу».
На живот давил заткнутый за ремень пистолет мастера Стечкина. Изъятый у вехобитов АПС Щавель зарядил патронами из оружейки Централа. Воля Петрович роптал, что самим стрелять будет нечем и боеприпасы на вес золота, но согласился отдать две пачки под акт о конфискации. Теперь у Щавеля был полный магазин и дюжина патронов про запас. Лезть в басурманское жилище с голыми руками не хотелось, а лук в доме бесполезен. Да и кто их этих учёных знает, от чего они заговорены. Колдовство действует на всё и только на скорость пули не влияет. Князь с категоричным запретом огнестрела остался далеко, а автоматический пистолет был под рукой. В тюремном тире Щавель выпустил пять пуль из запасов Воли Петровича, сдал гильзы и остался, в целом, доволен. Пистолет дал всего одну осечку. «Ещё послужит», — скептически заметил Лузга. Пусть и допиндецовый, «стечкин» удовлетворительно сохранился, а боевая пружина оказалась и вовсе новодельной. Должно быть, в Рыбинске навертели, а может в самом Белорецке. При таком внезапно открывшемся взаимопроникновении культур удивляться уже ничему не приходилось.
— Сюда, — указал понятой на длинный двухэтажный дом с подъездами, едва видимый в ночи — тонюсенький серп нарождающегося месяца света практически не давал.
Поодаль, за деревьями, высились корпуса университета. Здесь жили преподаватели. Окошки не светились, все спали.
— Квартира один, первый этаж, дверь налево, — предупредил понятой.
Исполнявший роль возницы раболов Федул завернул телегу к крыльцу. Ратники надели шлемы и сделались похожими на ночной кошмар.
— Ёрш, под окна, Михан, стой у дверей, — распорядился Скворец.
Щавель спрыгнул на торцовый тротуар, поправил вытертую кожанку, которой снабдил Воля Петрович, взял с телеги портфель.
— Пошли, — бросил командир.
Группа в составе обозника, представителя городской стражи и понятых последовала за ним.
Скворец и за ним Михан упруго взлетели по ступенькам, скрылись в подъезде. На лестничной площадке был мрак, хоть глаз коли, Щавель чиркнул одолженной у Лузги зажигалкой, подсветил деревянную дверь с медной табличкой номера. Скворец забарабанил по ней кулаком.
Ждали. В темноте понятые переминались с ноги на ногу, участие в обыске было им в новинку. Только на повторный стук из квартиры донеслось какое-то шевеление и шлёпанье. Должно быть, хозяева проснулись и гадали, почудилось или нет. Скворец стукнул опять.
— Иду, иду! — крикнула женщина.
Лязгнуло железо о железо и послышался удар о косяк, должно быть, откинули крюк. В расширяющемся проёме зарделась разгорающаяся свечка. Огонёк озарил женское лицо, некогда, в молодости, милое, но никогда не бывшее красивым.
— Что случилось?
— Гиниятуллин Нурислам Ильясович здесь проживает? — казённым голосом осведомился Скворец.
— Да, а что…
— Тогда мы к вам, — бесцеремонно сдвинув хозяйку с дороги, ратник вторгся в прихожую, а за ним вся группа. — Михан, дверь на крюк. Охраняй.
Женщина опешила. Схватилась обеими руками за подсвечник, прижала к груди, словно хотела опалить волосы.
— Нурислама Ильясовича позовите, — городской стражник чувствовал себя не в своей тарелке. — Будьте так любезны.
Он вежливо придержал хозяйку, когда она перешагивала через высокий порог на кухню.
Огромную кухню с обеденным залом разделяла пополам русская печь. Пахло потом, молоком, кошками, манной кашей, керосином и подопревшим тряпьём, отчего у Михана, сунувшего было нос следом за всеми, встал в горле ком и молодец вынырнул обратно в прихожую на дверной пост.
В дальней стене виднелись две створчатые двери в жилую половину. Одна створка была распахнута, в комнате копошились, там вдруг посветлело. Заскрежетало стекло о ржавую жесть. В дверях показался толстенький мужик лет сорока, с головою гладко выбритой и чёрными усиками щёточкой. На нём была диковинная полосатая пижама, в руках он держал облезлую керосиновую лампу с закопчёным стеклом. На кухне сразу стало светло. На стенах обнаружились зеленоватые бумажные обои в розовый цветочек, на стене жестяные китайские часы с гирьками — ходики. Картинки в рамках и детские рисунки над столом. Герань на подоконнике. Ситцевые занавесочки с кружевами. Застеленный китайской клеёнкой стол, сахарница и блюдечко с засохшей дрянью, на углу разбросанные цветные карандаши.
«Кучеряво живёт басурманин, — подумал Щавель. — Керосин ему привозят прямо из Орды или тут всем профессорам так положено?»
— Гиниятуллин Нурислам Ильясович? — спросил он, выступая вперёд.
— Я Гиниятуллин, — мужик спросоня жмурил глазки, неясно ещё соображая, что происходит и на каком свете он находится, но огромадная фигура омоновца, с головы до ног облепленная тусклым блеском стали, до усов закрытая маской шлема, возникла у него на пути и понудила сбросить дрёму.
— Ты арестован, — известил Щавель.
Голос, от которого Нурислама Ильясовича через всё нутро будто ледяным колом пронзило, вверг задержанного в ступор. Секундой позже до него дошёл смысл, это было как обухом по голове. Профессор Гиниятуллин застыл посредь кухни соляным столпом, и всех его могучих мозгов хватило только, чтобы выдавить самое сокровенное, что никакой ветер перемен не может сдуть со дна человеческой натуры:
— Я? За что?!
На этот вопрос он, однако, не получил ответа.
— Оружие, предметы христианского культа, прочие запрещённые предметы есть? — привычно отбарабанил Скворец.
Басурманин не нашёлся, что ответить. Сейчас он переживал сокрушительный надлом судьбы, после которого жизнь осыпается градом в преисподнюю, а биография чётко делится на две части — до ареста и после.
Опомнилась хозяйка.
— Он ничего не делал. В чём его подозревают? — кинулась она к человеку с портфелем, объявившему об аресте.