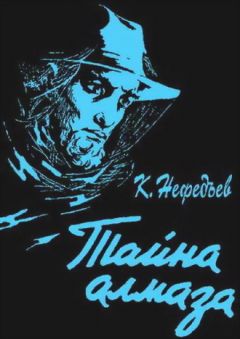Трезвый Сом всегда был излишне активным и любознательным. Невзирая на неусыпную деятельность шефа контрразведки и четырнадцати его помощников, он довольно скоро узнал, что в подвале дома, в котором происходили собрания и посиделки, находится нечто, напрямую связанное с его основной профессией, то есть с поисками полезных ископаемых. Это знание возбудило его любопытство и, ради удовлетворения последнего, он решил наступить на горло собственной песне и продолжить свое членство в невыносимо и постоянно трезвой секте.
Бомбу он увидел через год, когда и забыл, как пахнет спиртное. Шефу контрразведки в этот день предстояло сделать научный доклад по внутренней теме 009801А-44 "Хрупкая Вечность и развал Российской империи" и он, донельзя возбужденный, ничего не видел и не слышал. Его помощники также были поглощены вожделением предстоящего события и окружающее воспринимали весьма неадекватно действительности. И Сом смог незамеченным проникнуть к алтарю и увидеть бомбу.
Бомба его не поразила, его поразили алмазы, вернее один из них, тот, который выполнял свою природоохранительную роль на переднем плане. Увидев его и муху внутри, Сом Никитин испытал чувства, весьма близкие к чувствам, испытанным Михаилом Иосифовичем в Архангельской области на чердаке старого северного дома.
Алмаз, сверкавший розовым пламенем, всколыхнул воспоминания – Сом Никитин ведь видел почти такие же на Кумархе, видел, но не поверил своим глазам. Теперь же алмаз вернул себя, пронзив собой время, вернул, чтобы вновь заворожить его, Сома, своей невозможностью, своей вечной силой, своей диалектикой (единство и борьба противоположностей!), своей иронией (засиженный мухой фетиш человечества!).
И Сом решил завладеть драгоценностью единолично. Да нет, ничего он не решил, просто алмазное пламя вошло в его сердце, в его измученный трезвостью испитый разум и он, ничего не понимая, начал действовать, как заведенный.
Разломав венский стул, стоявший у стены напротив алтаря, Никитин с превеликой осторожностью расклинил гнутой его ножкой щель между фронтальной нижней и верхней частями бомбы, вынул освободившийся алмаз, полюбовавшись с минуту, сунул его в карман и прошел (руки в брюки), в актовый зал, прослушал там лекцию о развале сверхмощной державы и смылся под шум заключительных аплодисментов.
Конечно, если бы Сом подумал, если бы его измученный мозг мог думать, то он, в конце концов, допер бы, что красть алмаз нельзя, ибо очень опасно и не только для него, но и для всего человечества.
Еще он допер бы, что Михаил Иосифович в глубине своей взбудораженной души, души, бесконечно изможденной ежесекундным умственным трудом, желал, чтобы когда-нибудь похищение алмаза случилось, желал поставить человечество на грань жизни и смерти, поставить, чтобы оно, наконец, себя оценило и смогло, захотело, наконец, спастись, желал и потому запретил Полковнику установить в святилище телекамеры и двери с секретными замками.
Неожиданное свершение этого подсознательного желания (без сомнения, внушенного мухой) вкупе с потрясением, испытанным им при виде ножки венского стула, торчащей из его алмазно-плутониевого детища, привело бедного гения к третьему по счету инфаркту.
Умирая, Михаил Иосифович попросил похоронить себя рядом с бомбой... И удалить, наконец, из нее ножку.
Руководители секты выполнили лишь последнюю просьбу – рытье могилы рядом с бомбой, лишившейся одной из своих опор, было признано ими опасным.
...Хоронила Михаила Иосифовича вся научная общественность Москвы, хоронила на Новодевичьем кладбище. Было много поминальных статей в газетах, в том числе и иностранных, его именем даже назвали какой-то физико-математический институт (кафедру?) в Екатеринбурге и улицу то ли в новосибирском Академгородке, то ли в Ижевске, то ли в Сарове, то ли в другом секретном атомном городке.
Но суть данной части нашего повествования не в этом. Дело в том, что вес верхней части сакральной бомбы был рассчитан Михаилом Иосифовичем так, что он мог выдерживаться в течение сколь угодно продолжительного времени лишь четырьмя алмазами. Три же алмаза (особенно два диагонально расположенных) могли в любой момент разрушится от скалывающих напряжений, ведь алмаз при всей его твердости является чрезвычайно хрупким минералом... Достаточно было большегрузному автомобилю, проезжающему по Поварской (цементовозу, к примеру), наехать на обломок кирпича или просто попасть задним колесом в колдобину, и через несколько секунд Первопрестольная перестала бы существовать в принципе.
И Баклажан, да, да Баклажан, бывший первым помощником Михаила Иосифовича, конечно же, знал об этой опасности. Безусловно, он мог сунуть на место украденного алмаза нечто блестящее, даже настоящий алмаз соответствующего размера, ведь денег у него, бывшего бандита-рэкетира, а потом и оперативного помощника видного экспортера сырой нефти, было достаточно. Но чтобы эта "реставрация" оставила бы от сакрального смысла Хрупкой Вечности? Все превратилось бы в подделку, в пародию, в насмешку, в религию, как и все религии, основанную на обмане. А Баклажан, всю свою отвратительную прежнюю жизнь проживший среди жуликов и обманщиков, не хотел обмана. И, поручив судьбу столицы большегрузным автомобилям, бросился в погоню за Сомом Никитиным. Бросился в погоню, не минуты не сомневаясь, что алмаз будет возвращен.
3. Никого нет. – Первый раз под землей. – "А-а-а!" Синичкиной. – Еще "А-а-а! – И еще. – Они мне, похоже, сочувствуют!!? – Красные глаза и длинное имя.
До третьего штрека надо было идти минут десять. Пройдя метров пятьдесят, мы остановились, и минуты три слушали тишину. Так, на всякий случай. Или, скорее, для того, чтобы обмануть самих себя – наш скандал на устье, особенно крик Синичкиной, без сомнения был слышен во всех уголках штольни; и люди Баклажана, находись они в ней, вряд ли позволили бы себе переговариваться.
Услышав лишь тихое журчание воды, струившейся по водоотводной канавке, мы продолжили путь. Ствол штольни имел ухоженный вид – водосточная канавка была добросовестно почищена, небольшие завалы разобраны, а через крупные устроены удобные проходы.
– Это местное население старается, – сказал я шедшей сзади Синичкиной. – В штольне много мест, закрепленных рудостойкой, то бишь бревнами, а почти всю арчу, то есть можжевельник, в этих краях вырубили еще сто лет назад. Вот они и ходят сюда по дрова как в лес. Смотри, в приустьевой части все крепление сняли, того и гляди, кровля рухнет[16].
Анастасия смолчала и я, обернувшись, посветил ей в глаза – они были полны страха. "Первый раз под землей", – догадался я и вспомнил, как сам впервые ходил один в заброшенную горную выработку. Потушишь фонарь, специально потушишь, чтобы впустить в кровь немного сладенького страха и сразу же тьма выедает глаза до затылка. Кругом неизвестность, кругом лабиринты горных выработок, под завязки залитых стопроцентным мраком. Вытерпев его с минуту, не больше, вытерпев самую малость и в который раз убедившись, что темнота сильнее, что еще чуть-чуть, и она растворит тебя, сожрет полностью, нервным движением включаешь фонарь. А, включив, видишь, что мрак не побежден вовсе, он всего лишь спрятался в рассечки, сжавшись пружиной, отступил в глубину ствола и штреков.
Потом это проходит. Когда понимаешь, что потеряться в штольне невозможно. Набить шишек на каску – это пожалуйста, а потеряться – никогда. Почему? – спросите вы. Да потому что штольни проходятся с небольшим уклоном в сторону устья и рудничные воды в них всегда бегут к выходу.
...Как только устья первого и второго штреков остались за нашими спинами, мне пришло в голову испугать уже пришедшую в себя Синичкину (ожидание опасности частенько вырождается у меня в эйфорию). И я стал придумывать, как это сделать. Подходя уже к устью третьего штрека, решил: "Заверну в штрек и закричу благим матом, трусики точно подмочит".
И прибавил шагу. Анастасия не отставала и бодро шлепала по лужам метрах в трех позади. В глазах ее сверкала решимость не поддаваться никаким страхам, а также предполагаемым провокациям с моей стороны.
"Ну, погоди!" – подумал я и, завернув в штрек, прошел пару метров, обернулся назад и возопил во все горло: А-а-а!!! Вышедшая из-за угла Синичкина, была намного бледнее, чем несколько секунд назад, но губы и кулаки у нее были сжаты, будь здоров. А глаза сверкали презрением, к которому была подмешана всего лишь пара с половиной килограммов страха.
"Да, дорогой мой, тебя уже раскусили и предугадывают!" – подумал я огорченно. И как раз в этот момент глаза Анастасии кинулись мне за спину и тут же округлились, выпучились, взорвались неимовернейшим, убийственным страхом. Закричав пронзительно "А-а-а!!!", она импульсивно подалась назад. Мгновенно обернувшись, я... ничего не увидел... А за спиной раздался смех Синичкиной, смех, грозивший в скором времени завершиться временной потерей голоса. "Купила покупщика, артистка, – подумал я, понемногу приходя в себя. – Уважаю!"