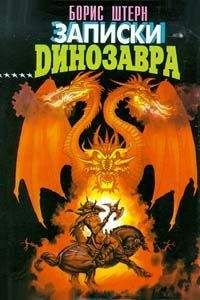– Чей?
– Твой. Личный, персональный. Который твоя японочка с острова Хонсю послала тебе в подарок за то, что ты ее… – Президент делает паузу.
– Что «ее»?
– За то, что ты ее согласился взять в лечащие врачи, – смеется Президент. – А Моргал этот компьютер зажилил – будто бы для нужд издательства. Понял? А некий Ведмедев на него телегу. Мне. А за мой перевернутый портрет некий Степаняк на Моргала телегу в ЦК. Сейчас разбираются… Хочешь на его место сесть? Садись. В самом деле, почему бы тебе не сделаться директором «Перспективы»? Чего ты еще хочешь? Любое твое желание. Хочешь на мое место? Пожалуйста. Телегу писать не надо, сам уйду. Делай что хочешь. Что мы все о делах? Ты мне лучше вот что скажи… Как мужик мужику… Ты все-таки ту японочку… это… ну, это самое…
– Александр, – наставительно отвечаю я. – Ты же мальчик из интеллигентной семьи, а еще не научился называть вещи своими именами…
И я, пристально глядя на синюю даму, произношу глагол, который в русском языке точно обозначает то действие, которое имеет в виду Президент. Это, конечно, хулиганство. Наверно, я все-таки впал в детство, но я не могу удержаться, чтобы не провести мимоходом этот эксперимент и понаблюдать смену спектра на лице строгонькой дамы. Грешен, люблю вгонять в краску синие чулки!
– Я так и думал! – одобряет меня Президент. – Иначе, зачем бы она дарила тебе персональный компьютер за 12 тысяч долларов? Молодец! Значит, жив-здоров. Делай что хочешь, только будь жив-здоров! Это самое главное.
– Спасибо, Александр! Умер-шмумер, лишь бы был здоров!
Я кладу трубку и выхожу из гостиницы, чувствуя на себе восхищенный взгляд синего чулка.
Пока я говорил с Президентом, закончилось затмение Марса, наползли тучи, пошел снег, а у «ЗИМа» назрел скандал: Павлика скоро начнут бить друзья жениха за то, что он уже успел выпросить у невесты белую гвоздичку и, развалясь в «ЗИМе», уговаривает ее прокатиться по Кузьминкам. Невеста что-то благосклонно отвечает Павлику в форточку, подружки хихикают в отдалении, а фотограф побежал в ресторан за подкреплением.
– Поехали!
Оревуар, красавица! Твоя гвоздика украшает передо мной ветровое стекло. Пьяные друзья выводят под руки из ресторана подобного себе жениха в одной рубашке (на нем, естественно, есть и штаны, но так уж говорится: «в одной рубашке»). Но мы уже далеко, нас уже не догнать.
– Ну и мужик ей достался… Пьянь болотная, – говорит Павлик.
– Зачем же она за него выходит?
– По расчету. Во-первых, он ее любит. Во-вторых, засиделась в девках. В-третьих, беременная от другого, а жениху объявила, что от него.
– Да ты откуда знаешь? – поражаюсь я.
– Сама рассказала. Как на духу, за три минуты. Они любят мне рассказывать, у меня лицо душевное. Наверно, думают, что я грехи отпускаю.
– Тут целая драма, а ты с юморком…
– Может, драма, может, нет… – вздыхает Павлик. – Обычное дело. А моя что вытворяла? Все они… Возьмем, к примеру, вашу внучку…
– Заткнись.
– Извините.
Валит снег. Белая гвоздика поникла на ветровом стекле, как большая снежинка. Мы опять проезжаем мимо трансформаторной будки. От нее наверх к Дому ученых тянутся пушистые заснеженные провода. Я подмигиваю оскаленному черепу: что, взял?
– Ехать-то куда? – уточняет Павлик.
– На кладбище.
Он думает, что я шучу. Он думает, что мы возвращаемся в Дом ученых досматривать «Звездные войны».
– Весь день слышу: «Трифон Дормидонтович да Трифон Дормидонтович…», а кто такой этот Трифон Дормидонтович? – спрашивает он.
– Ты лучше смотри на дорогу и не думай о всякой чепухе, а то куда-нибудь врежемся.
«ЗИМ» буксует и тяжело взбирается на подъем, гвоздика бьется о лобовое стекло, как птичка.
– Останови здесь, – командую я, когда мы проезжаем мимо мемориальной арки.
Павлик не понимает.
– Останови, я скоро вернусь, – я вылезаю из машины и выдергиваю гвоздичку из-под правого дворника. – А насчет Трифона Дормидонтовича спроси у Чернолуцкого. Это был его лучший друг. Спроси, он тебе расскажет.
– Куда вы, Юрий Васильевич?! – кричит Павлик. – При чем тут Трифон Дормидонтович? Это же кладбище!
– Оно мне и нужно, – бурчу я. – Ты не кричи, не кричи… Тут все спят, разбудишь.
Я направляюсь к арке. Свежий снежок хрустит под ногами. Ночью ворота заперты, зато калитка открыта, а за калиткой начинается такая темнотища, хоть глаз выколи. Но идти мне недалеко, привычно, моя могила находится прямо у входа, найду наощупь.
Калитка скр-рипит, а Павлик, чертыхаясь, ищет в «ЗИМе» карманный фонарик. Находит и устремляется за мной. Зря он так за меня беспокоится – в моем возрасте на кладбище не страшно. Тем более, что у моей могилы кто-то стоит и освещает плиту лучом фонарика. В луче мечутся снежинки и не могут из него выскочить. Кого это сюда занесло?
Мне в самом деле не страшно, но хорошо, что Павлик рядом. Он освещает лицо этого человека, а тот в ответ освещает нас. Лучи скрещиваются. Свет бьет в глаза, но я успеваю заметить у оградки еще две тени.
– Все понятно? – спрашиваю я Павлика. – Садись в машину, мы скоро. Фонарик оставь.
Успокоенный Павлик возвращается к «ЗИМу», а я с лучом света в руке подхожу к оградке. Вот могила. Плита. На плите – корзина живых роз. Нет, я помнил, помнил, что завтра у моей жены день рождения, но я не догадался, дурак, для кого Владик купил розы.
Я вхожу за оградку, кладу в корзину к розам белую гвоздику и выхожу. Мы молчим и светим фонариками на цветы. Их заносит снегом. О чем нам говорить, если мы видим друг друга насквозь и думаем об одном и том же, хотя я сейчас ни о чем не думаю, и потому Софья Сергеевна не может прочитать мои мысли. Владислав Николаевич подправляет взглядом цветы, Михалфедотыч уже успел сделать моментальный рентгеновский снимок и с неудовольствием обнаружил в моем боковом кармане наган с одним патрончиком, а Софья Сергеевна вызывает меня на обмен мыслями:
«О чем вы думаете, Юрий Васильевич?»
Ни о чем не думать не получается.
«Нас всех здесь подхоронят, думаю я какую-то ерунду специально для Софы. – Кстати, слова „подхоронить“ в словаре нет. Я проверял. Оно должно бы стоять между „подхомутником“ и „подхорунжим“… эти слова уже никому не нужны. Зато после „подхорунжего“ следует странное слово „подцветить“. Наверно, оно означает то, что я только что сделал: подложил на могилку к розам одинокую белую гвоздичку».
«Подцветили то есть, – соглашается Софья Сергеевна. – О чем вы говорили с Президентом?»
«Не беспокойся, все хорошо. Мишу назначают директором „Перспективы“ вместо Моргала».
«Моргал моргал и проморгал, – злорадствует Софья Сергеевна. – Но Миша не захочет».
«Почему не захочу? – вступает в наши раздумья Михалфедотыч. – Может, и захочу».
«Владику пора на аэродром», – думаю я, хотя об этом сейчас лучше не думать.
«Ничего, думайте, – отвечает Владислав Николаевич. – Мы попрощаемся у гостиницы, и Павлик отвезет меня к самолету. А вы живите. И чтоб без фокусов!»
«Верно! – Михаил Федотович переводит размышления на другую тему. – Зачем вам наган да еще с одним патроном?»
«Ребята, – отвечаю я. – Мне надоело играть в эту игру. Она затянулась. Неужели вы в самом деле думаете, что я бессмертный? Вам тоже чудеса подавай? Чуда захотелось? Вам тоже нужны эти мифы Древней Греции?»
«Ну, не бессмертны, но долголетни… Ваш попугай…»
«Что „попугай“? – возмущаюсь я. – Пусть попугай, но я больше не могу! Еще триста лет здесь ползать… Нет, не хочу».
«Мы не имеем права решать, – пытается вразумить меня Владислав Николаевич. – Мы всего лишь четыре подопытных кролика. Это будет большой грех, если мы самовольно уйдем».
«А вы что думаете?»
«Я – как Софа», – уклоняется Михаил Федотович.
«Я бы на вашем месте еще пожила. Но я понимаю… это жутко».
«Какие еще мнения?»
Но мысли у всех смешались, потому что с горы мимо кладбища, раздувая метель, с танковым грохотом и с зажженными фарами проносится колонна мотоциклистов. За ними опасливо катит милицейский наряд и пытается образумить этих дьяволов из громкоговорителя:
– Граждане, да ведь люди же ж спят!
Значит, «Звездные войны» благополучно завершились и возбужденные крекеры, подняв с постелей спящие Кузьминки, сейчас отправляются через водохранилище будить Печенежки, а потом по инерции вырвутся на оперативный простор Среднерусской возвышенности – но будут остановлены спецназом у железнодорожного переезда. Это нетрудно предвидеть – там гиблое место для соловьев-разбойников. Будут проколоты шины у двух передовых мотоциклов, разбиты четыре фары, семерых крекеров загребут в печенежкинскую каталажку, утром вызовут их родителей, а те в свое оправдание объявят «Звездные войны» идеологически вредным фильмом.
Опять тихо валит снег. Можно считать, что совет старейшин нашего учреждения состоялся, и теперь кто-то должен нарушить молчание.