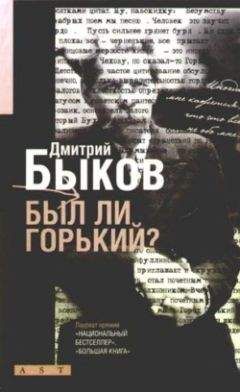ГОМУНКУЛУС ГЕНА
«Жила-была баба, скажем, — Матрена…»
(А. М. Горький «Русские сказки»)
Жила-была баба, допустим, опять Матрёна. Тем более, что с начала века в ней очень мало что изменилось: аршином по-прежнему не понять, умом не измерить, больна всем сразу, лечиться не хочет и не помрёт, по всей вероятности, никогда. Правда, сказать, что она по-прежнему велика и обильна, было уже никак невозможно: если чего и было у ней в изобилии, так исключительно паразитов, которых ползало по ней видимо-невидимо. Велика она была, что да, то да, хотя некоторые её конечности уже отсыхали и отпадали понемножку, да и часть волос по окраинам повылезла, но масштабом Матрёна по-прежнему впечатляла, и дети у неё не переводились. Лучших из них Матрёна по своему обыкновению поедала, некоторых для вкусу предварительно сгноив, либо отправляла на воспитание к соседям, чтобы не смущали её покоя. Чада её, выросшие в соседских домах, изобрели там вертолёт, телевизор и второй концерт Рахманинова. Соседи были Матрёне очень благодарны и иногда подбрасывали еды.
Любил ли Матрёну Борис, сказать довольно затруднительно. Знали только, что масштабами он был отчасти сходен с Матрёной, да ещё походил на неё тем, что решительно не знал, для чего он такой большой уродился. Однажды, заскучавши, он возжелал обладать Матрёной. И вскоре стал очередным законным мужем нашей героини. Правда, зная свою обоюдную непредсказуемость, герои промеж собою заключили брачный контракт на четыре года: там, говорят, посмотрим. Первое время они очень веселились, но потом Матрёна стала замечать, что детей у неё становится всё меньше, пальцы отваливаются всё быстрей, волосы и вовсе выпадают дождём, а на теле завелись струпья — то там зачешется, то тут заболит. Когда пришёл срок продлевать контракт, Матрёна явственно стала склоняться к тому, чтобы Борю каким-то образом сместить, потому что сожительство их потеряло для неё всякую привлекательность. При очередном продлении она твёрдо решила с Борею завязать.
Боря, однако, тоже был не пальцем сделан, не под забором найден (хотя находили его иногда и там, что греха таить), и лишаться Матрёны ему совершенно не хотелось.
Как вы думаете, что он сделал? Никто не угадает. Он замесил в колбе гомункулуса.
Чтобы гомункулус уродился пострашнее, смешал он в колбе желчь бюджетника и голодную слюну шахтёра. Плеснул елея — для умиротворения крайностей. Влил банный пот аппаратчика, выходящего из сауны порезвиться в бассейне с секретаршей. Добавил слезу охранника-пенсионера, вспомнившего боевую молодость, когда такие, как он, гоняли босиком по колымскому морозу не таких, как он. Пошла в дело и кровавая сопля писателя-патриота. Ну и, ясное дело, сам плюнул в получившийся питательный бульон — чтобы гомункулус вышел что надо, с волей и даром убеждения. В порядке украшения навесил Боря на своё чадо спереди серп и молот, а сзади — свастику. Чтоб уже совсем было страшно — что спереди, что сзади. Замысел был прост, как всё гениальное. Хочет, значит, Матрёна сменить мужа. Глядь, — а на пороге гомункулус. Вот и весь тебе выбор Матрёны. Знамо дело, Боря тут же восстанавливается в правах ещё на четыре года. Чтобы сам гомункулус, не дай Бог, при всей своей ярости никого не покусал, зубов ему Боря не дал. Всё остальное было у него как у человека, только уж очень страшное. И назвал Боря своё изобретение — Замечательно Юркий Гомункулус, Активно Насаждающий Оппозиционные Взгляды. А для краткости стал звать сокращённо, по первым буквам. То называется аббревиатура. Гомункулус и впрямь получился юркий да шустрый, возрос стремительно, даром что буквально из грязи, а главное — тут уж наш Франкенштейн достиг своей цели — был так страшен с виду, что на фоне его и Боря казался подарком судьбы. Правда, о мировоззрении его Боря совершенно не позаботился. Оппозиция — и всё тут. В результате гомункулус, которого Боря иногда ласково звал Геною (от латинского genus — рожать), был постоянно разрываем на части взаимоисключающими стремлениями. Слеза охранника требовала от него всех расстрелять. Попов в первую очередь, ибо они враги народа. Елей, напротив, вменял Гене в обязанность регулярно прикладываться к поповской ручке. Он же склонял Гену к православию, но кровавая сопля писателя-патриота требовала интереса к чёрной магии и трудам Александра Дугина. Голодная слюна шахтёра хотела всё у всех отобрать, но пот аппаратчика в такие минуты прошибал Гену с небывалой силой, удерживая от непредсказуемых действий. Короче, так бы его и разорвало, но Борин плевок словно цементом сплачивал в одном теле взаимоисключающие крайности.
Дальше всё случилось по-Бориному: подходит время продлевать контракт, Матрёна ропщет, и тут входит Боря с гомункулусом под руку: а ентого ты не хошь? Глянула Матрёна и обмерла: на щеке бородавка, на лбу другая, голос, ровно из бочки, и говорит, как по писаному, но кроме писаного, ничего сказать не может, потому что программа ему в голову заложена очень нехитрая, ровно на год, чтобы Матрёну один раз уговорить. Больше двух продлений Боря бы и сам не выдержал. Да и Матрёну почти никто ещё не выдерживал дольше.
Потому сказать Гена мог очень немногое: всё не так, преступная клика, бей не наших, миру — мир, вставай, страна огромная, всем по куску, власть — народу, красный октябрь, чёрный октябрь (имелись в виду два пожара в Матрёнином сердце, разделённых семьюдесятью шестью годами), самодержавие, православие, народность, пролетариат, духовность, гляжу в озёра синие, пасть порву — и ещё кое-что из репертуара писателя-патриота, в основном по фене.
Глянула Матрёна, лицом в Борисову грудь уткнулась, задрожала:
— Не оставь ты меня, — причитает, — друг сердешный, спаси от свово чудища!
— Да чем же он не люб тебе? — подначивает Боря. — Он тебе враз кровопускание сделает — половина паразитов к соседям со страху сбежит! То-то им от нас давно никакого подарка не было!
— Ах нет, сударик, — лепечет Матрёна, — ты хоша и крут, и в гневе страшон, и зашибаешь по маленькой, но никакого сравнения! Убери своего Гену, кормилец, а я за то тебя ишо четыре года на широкой своей груди продержу и кормить буду, чем попросишь!
— Ну то-то! — говорит Боря. — Спасибо, Гена, ты послужил мне и можешь убираться.
— Миру — мир, — отвечает Гена, — позорную клику — к ответу!
— Да ты чо, Гена?! — восклицает Борис. — Ну-ка, пошёл вон отсюда!
— Вставай, страна огромная, — говорит Гена. — Власть советская пришла, жизнь по-новому пошла. Мы наш, мы новый мир построим. Кто не работает, тот не ест. Отче наш, иже еси на небеси, будь готов!
Тут-то и вспомнил с ужасом Боря, что забыл вмонтировать своему кадавру кнопку для выключения, — чтобы, значит, могла его кукла дать обратный ход, заткнуться, исчезнуть в тумане и не препятствовать больше его с Матрёною счастью, — как минимум, до очередного продления контракта. Гомункулус не имел обратного действия! Хорошо хоть, не было зубов… Ни к каким действиям Гена способен не был — только и мог твердить, как заведённый: долой, мол, преступную клику, смело, товарищи, в бога душу мать, — и наслаждаться семейственным счастием в его присутствии не было никакой возможности! Полезет Боря на Матрёну, на пуховую перину, а Гена тут как тут, стоит у кровати и бухает, как из бочки: «Выведу народ на улицы! У меня философское образование! Владыкой мира будет труд! Смирно!».
К тому же с супружескими обязанностями Боря справлялся всё хуже и хуже — его больше привлекала сначала бутыль, припрятанная у Матрёны в погребе, а потом общение с молодёжью, которой он отдал Матрёну на поругание, сказавши, что реформаторы своё дело знают. Реформаторы с Матрёной разобрались по-быстрому — стали кусками рвать её мясо, расплодили невиданное число паразитов, а сами колесили по Матрёне в иномарках, распевая непристойные песни и поговаривая промеж собою, какая у них Матрёна дура и как мало ей осталось портить тут воздух. Матрёне всё это дело, конечно, надоедало помаленьку, и скоро кадавр Гена стал ей казаться не худшим вариантом.
— Пожалей меня, убогую, — плакалась она ему.
— Подымется мститель суровый, и будет он нас посильней! — гулко восклицал Гена.
— Ить, что творят со мной, ироды! — жалилась Матрёна.
— Банду к ответу, судью на мыло! — выдавал Гена.
— Раньше-то лучше было, — замечала Матрёна.
— Снявши голову, по волосам не плачут, — корил Гена. Он этих пословиц и поговорок знал чрезвычайно много.
— Один ты меня понимаешь, — умилялась Матрёна.
— Двум смертям не бывать, а одной не миновать, — некстати вворачивал Гена, но Матрёне уже было неважно, кстати он говорит или некстати. К тому же за время, проведённое с Борей, Матрёна здорово поглупела — и оттого ей, что ни скажи, всё было в тему. Тут бы и смениться Бориному режиму, но расплодившиеся по Матрёне паразиты быстро дотумкали, что и с гомункулуса можно кое-что поиметь, и стали потихоньку его растаскивать. Каждому — что понравится. Один — самый радикальный паразит — утащил слезу охранника. Другой — слюну шахтёра. Третий — пот аппаратчика. Расчленили бедного кадавра за каких-то пару лет до того, что из всех лозунгов, которые в него заботливо вложил Боря, только один и остался: банду к ответу! — но про эту банду уже так вопили все паразиты, включая и членов банды, что голос Гены в этом хоре совершенно потерялся.