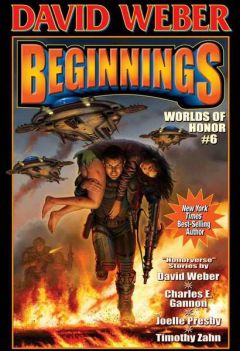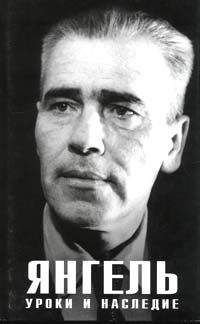– Из песни слова не выкинешь, – сварливо проговорил музыкант. – Поклянитесь, незнакомец! Вы не выдумщик? Хоровод маленьких людей – правда?
– Правда, – хмуро ответил Лавочкин.
Его беспокоили сейчас куда более серьезные вещи, нежели пляски лилипутов. Где Палваныч, Тилль и прочие? Живы ли? Ищут небось, а он по голубым пещерам шляется…
– Расскажите, сделайте милость, – почти взмолился Ларс.
– Ну… Позже. Может быть, – пообещал солдат, не отрываясь от тревожных мыслей.
– Ой, что же это мы? – Красавица всплеснула руками. – Как тебя зовут?
Коля очнулся, посмотрел в зеленые глаза девушки:
– Николасом. А вас?
– Фрау Грюне [32] , – представилась она.
– Груня, стало быть, – усмехнулся парень.
Красавица рассмеялась, пряча лицо в ладошки:
– Ты смешно произнес мое имя! Мне понравилось. Куда же ты путь держишь?
Рядовой взял паузу. Ему и самому было интересно, куда теперь идти. Почесав лоб, он неуверенно сказал:
– В Стольноштадт, вероятно.
– Мы тоже! – обрадовалась Грюне. – Сейчас это самое далекое от фронта место.
– Да, вам, музыкантам и певцам, на войне делать нечего, – проговорил Лавочкин.
– Что ты, Николас! – Она залилась бархатистым смехом. – Вот они музыканты, а я – типичная Гангстерине.
– Бандитка?! – вырвалось у Коли.
– Нет, глупенький! Я их кормлю, а они дали мне прозвище Гангстерине – дорожная тарелка супа [33] .
– Ага! – невпопад воскликнул Ларс.
Он хлопнул в ладоши, полез за пазуху и извлек зеленую шляпу а-ля Робин Гуд.
Нахлобучив шляпу на голову, музыкант лихо подхватил лютню. Врезал по струнам, рассыпал ноты быстрым перебором. Сам засиял, даже уныло висевшие усы весело затопорщились.
– Что с ним? – спросил солдат.
– Восемь вечера, – с непонятным для рядового значением сообщила Грюне.
А Ларс встал, пошел вокруг костра, не прекращая игры. Запел зычным голосом:
По кладбищенской заброшенной дороге
Я шагал под полночь, несколько нетрезв.
И хотя меня не слушалися ноги,
Мне в деревню нужно было позарез.
Вот же дернул черт переться по погосту.
Тишина. Луна. И тени застят взгляд.
Что узрел я, рассказать весьма непросто:
Мертвецы с косами вдоль дорог стоят.
И…
Вдруг…
Ка-а-ак…
Свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала,
Гробы на ста колесиках неслись!
Зловещей этой свадьбе было места мало,
А если ты живой – поберегись! [34]
– Очень кстати. – Девушка поежилась, тревожно всматриваясь в темноту.
– Да, ты, Ларс, репертуарец-то выбирай, – проворчал Филипп Кирхофф. – Надо готовиться, когда со звездами общаешься.
– А вы не стесняйтесь, господа и дамы, заказывайте баллады по вкусу, любую вам преподнесу, были бы талеры! – не моргнув глазом, выпалил музыкант и, не дожидаясь заявок, затянул следующую песню.
К счастью присутствующих, не про кладбище.
– Так чего это он? – переспросил Лавочкин, наклонившись к уху девушки.
– Ах, он несчастный человек, – вымолвила Грюне, чуть не плача. – Каждый вечер на него накатывает особое состояние. Он поет, пристает к людям, вымогая деньги… Не отстанет, пока не заплатишь! «Кавалер, подарите даме любовную серенаду!», «Фрау, скрасьте свой досуг игривою песенкой!» Даже колотили его неоднократно, а он все поет.
– А, понятно, – протянул солдат. – Заклятье, значит.
– Нет. – Красавица энергично замотала прелестной головкой. – Не заклятье. Это профессиональное. Он много лет проработал в корчмах, трактирах и прочих питейных заведениях. Вот и привык. Мы уж его и связывать пробовали, рот затыкали… Рвет путы, глотает кляпы и вновь за свое!
– Ого, – уважительно откликнулся Коля.
Он всегда выражал почтение к загадочным природным и человеческим явлениям.
– Ремесленник, – наморщил нос Филипп. – Навязчивый трактирный певун. Горланит весь вечер, а хороших жалобных песен не знает.
– Неправда, три знаю, – пропел, не сбивая мелодии, Ларс.
– Они уже не действуют, – раздраженно сказал Кирхофф.
– Не действуют? – Рядовой все больше изумлялся странной компании.
– Именно! – подтвердил король поп-музыки Наменлоса.
Лавочкин ждал продолжения, но Филипп молчал, а Ларс мурлыкал что-то об эльфах и любви.
– Понимаешь, Николас, – потрудилась объясниться Грюне, – этим господам регулярно требуется довести меня до слез.
– Это что, извращение?
– Ни-ни! – Девушка даже обиделась на солдата за оскорбительное предположение. – Речь идет о деньгах.
Солдат оторопел:
– Елки-ковырялки! Ты просишь милостыню, обливаясь слезами?!
– Да нет же! Я плачу жемчужными слезами. Жемчугом, понимаешь?
– Ты плачешь жемчугом? А это не больно?
– Не больно, смею тебя уверить, волшебство же, все-таки, – улыбнулась красавица. – Просто меня нужно разжалобить.
Коля немало повидал, шатаясь по местным королевствам, но в жемчужные слезы не слишком поверил. Общая идиотия ситуации не позволила.
– Зря сомневаешься, – сказал Кирхофф. – У нас как раз кончились деньги. Можешь поведать ей что-нибудь жалостливое и убедиться.
Лавочкин посмотрел на девушку. Та кивнула.
Ларс, скрепя сердце, прервал концерт, уселся к костру.
– Ну, Груня, слушай печальную историю, – приступил он. – Жил король с королевой, и было у их двенадцать сыновей…
– Эй, подожди! – Фрау Грюне замахала руками. – Детство Зингершухера меня давно не пронимает.
«Ух ты! – мысленно воскликнул солдат. – Тут она меня положила, так сказать, на обе лопатки! Что бы ей наплести-то?.. На обе лопатки…»
И тут в Колиной памяти произошло несколько молниеносных пробоев. Образное выражение породило ассоциации с борьбой дзюдо, которой парень занимался в школе. Япония, борьба, грустные истории. Лавочкин вспомнил рассказ тренера и расцвел.
Напрасно некоторые считают борцов тупыми сгустками мышц.
Да, сэнсей был здоровенным мужиком с черным поясом. Мастером спорта. Зато он являлся большим любителем японской эстетики и очень юморным товарищем. Однажды, когда Коля от нечего делать пришел на занятия за час до начала, тренер напоил его чаем. За столом он буквально завалил парня информацией о самураях и прочей экзотике, а потом пересказал известный каждому школьнику сюжет, только «на японской фене».
Эту пародию и вспомнил сейчас Лавочкин.
– Что ж, Груня, – произнес Коля, входя в образ степенного японца. – Нет повести печальнее на свете… Ой, это из другой оперы. Поведаю тебе о тяготах уголовного самурайского кодекса.
И солдат погнал как по-писаному. Жаль, иногда приходилось останавливаться, чтобы объяснить слушательнице незнакомые слова и странные обычаи.
Евгеюка Онегаси
История сия начинается с весьма прискорбного случая. Достопочтенный дядя нашего героя, уважаемый и прославленный сегун, захворал. Чуя скорую смерть, старый феодал призвал своего племянника, дабы тот, храня верность самурайскому укладу, помог ему уйти по-мужски. Славный воин не хотел умереть, как слабая женщина, во сне.
Преданный семье юноша устремился в отдаленную провинцию оказать последнюю услугу старшему. Следует признать, что молодой самурай спешил к дяде не только для того, чтобы встать за его плечом, но и для получения богатого наследства.
Однако Евгеюка Онегаси (а это был он) опоздал всего на несколько дней: дядюшка потерял лицо и умер, как старая гейша, без кусунгобу в брюхе.
Наследство, впрочем, никуда не делось. Вступив в права сегуна, Евгеюка скоро заскучал среди неспешной провинциальной жизни.
Получивший блистательное воспитание при дворе императора, успешно прошедший закалку интригами скучающей знати, познавший любовь многих искушенных гейш, Евгеюка тяготился неспешностью быта благословенной глуши, в коей надлежало ему провести долгие годы сегунства. Затворничество стало его судьбой.
Часто укрывался молодой феодал от назойливых соседей, гуляя в лесу, либо запирался в библиотеке, сказавшись больным.
Лишь с единственным соседом согласился разделить чайную церемонию Онегаси. Этим счастливцем оказался Владимото Ленскидзуки, живой и душевный, хотя и не лишенный инфантилизма самурай.
Они сблизились. Один – аскет и молчун, и другой – слагающий танка по любому поводу. Один, напором подобный сумотори, и другой, обладающий мирным нравом пастуха. Один, чья стихия – Огонь, и другой, посвященный Воде… Их дружба была подобна союзу сильного в преодолении препятствий тигра и робкого в своих желаниях кролика.
Евгеюка тайно восхищался наивным романтизмом Владимото. Ленскидзуки же нашел в Онегаси верного слушателя и мудрого советчика.