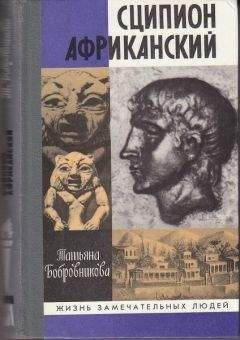В нашем столетии нравы стали помягче — распять, конечно, не распнут и на арену ко львам не бросят, а вот персоналку члену партии слепить — плевое дело.
Сколько их было, безвестно канувших в Лету членов партии различного ранга, испытавших на своих плечах тяжесть персонального дела! Более всего персоналка сродни акту каннибализма, когда-то распространенного среди аборигенов страшных Соломоновых островов. Собираются эти аборигены, обвиняют сородича в нарушении табу, разводят костер и под протяжные ритуальные песнопения съедают соплеменника. Съедаемый не вправе при этом возражать: вождь и старейшины уже приняли решение, а они ошибок не допускают. Провинившийся член парт… тьфу!., абориген должен лишь каяться, что оказался недостаточно вкусным.
Но мы несколько отвлеклись.
Уже брезжил сероватый безрадостный рассвет, и Сафонов принялся сворачивать газеты с остатками ночного пиршества, уже прогромыхали у школы доспехи сменяющихся легионеров, уже прокричали утренние петухи, возвещая начало первого из отпущенных секретарем райкома дней, когда далеко у меловых гор по ту сторону Дона загромыхало длинно и раскатисто, словно кто-то неуклюжий пытался кататься на пустой жестяной крыше.
— Гроза идет, — задумчиво сказал Пригода, распахивая окно и выглядывая на улицу, наполненную нежным посвистом и щебетанием мелкой птичьей сволочи.
— Це добре, — сказал Волкодрало. — Хлеба будуть ыдкавни.
— Да не придуряйся ты, Ванька, — с досадой сказал Пригода. — Тоже мне хохол нашелся! Ты ж и родился здесь.
Сафонов заулыбался, покачивая крепкой круглой головой, которая от этих покачиваний приобрела сходство с бильярдным шаром.
— А и то, — сказал он, — если посмотреть повнимательнее, в каждом человеке живет иностранец.
— Это точно, — ухмыльнулся Волкодрало. — Все мы тут не выездные!
— Вы, товарищ Файнштейн, прекратите вести сионистскую пропаганду, — хмуро сказал Пригода. — Не в синагоге.
— Только не надо притворяться, Митрофан Николаевич, — горячо сказал Волкодрало, позабыв о рцгной украшьской мове. — Не надо, Митрофан Николаевич. Я ж, как и вы, только по папе пятую графу зацепил, а мамы у нас чистокровные хохлушки.
— Да будет вам, — засмеялся Сафонов. — Нас партия чему учит? Она нас учит, что люди делятся на партийных и беспартийных, городских и деревенских, господ и товарищей. Но мы эти грани стираем и должны стереть окончательно. Еще Маркс и Энгельс указывали…
— Да заткнись ты, Иван, — устало попросил Пригода. — Не на митинге!
Онгора нерешительно пошевелился. Сейчас он одновременно походил и на шамана, и на колдуна, только внезапно потерявших веру в свои магические силы.
— Митрофан Николаевич, — спросил Онгора. — Вы не помните, когда римляне появились, грозы были?
Как часто разгадка великой тайны начинается со случайного озарения. Сколько людей лежали под яблоней и получали шишки от упавших с ветвей плодов. Озарение настигло лишь одного, и он стал великим. В ванной сидели до Архимеда, после Архимеда и по соседству с Архимедом, но великий закон постиг только он. И остался великим. Чайник кипятили тысячи, но о том, что паровая струя обладает силой, способной двигать многотонные грузы, догадался лишь один. И тоже остался великим. Те, кто придумал водку и пиво, были, без сомнения, гениями. Но истинное озарение снизошло на того, кто догадался смешивать небольшое количество водки с большим количеством пива и употреблять эту смесь, опрыскав голову дих-лофосом и надев на нее в жаркий летний день ушанку, добиваясь таким образом непостижимого опьянения при минимальных затратах.
Онгора не был гением. Спрашивая о грозе, Онгора не мечтал о величии. Он честно пытался отработать бабки, полученные от Сафонова. Как часто мысль бредет извилистым и прихотливым путем и приходит в голову тем, кто был недостойным ее!
— Гроза! — Митрофан Николаевич Пригода поднял указательный палец. — Это вы, товарищ… э-э-э… колдун, совершенно верно подметили. Была гроза. И какая еще гроза!
Была гроза.
Молнии с треском разрывали серый кисель туч, призрачно высвещая едва видимые за пеленой дождя белые холмы за Доном. Походная колонна римских легионеров двигалась к Дону. Лица у легионеров были пасмурными, настроение — и того хуже.
Впереди, ревя двигателем на колдобинах быстро раскисающего грейдера, шел милицейский «уазик». Рядом с водителем на переднем сиденье восседал молчаливый подполковник Дыряев. На задних сиденьях, тесня друг друга, сидели Пригода, Волкодрало и нервно улыбающийся Сафонов. За ними, на откидной скамеечке, обычно используемой для перевозки административно задержанных, сидели взятые на всякий случай экстрасенс Онгора и переводчик Гладышев.
— Ну и дождина! — поежился Пригода. — Льет как из ведра!
Только не лови меня на банальных сравнениях, Читатель! Люди чаще ищут банальные сравнения, нежели ищут свежий и необычный образ. Если говорят о «пиве пенном», то и морда вспоминается соответствующая. Эпитет «кавказский» обязательно упоминается в сочетании с гостеприимством, здоровьем или упоминанием о лице и его национальности. Если «пьяный», то обязательно добавляется «как свинья», хотя редко кто может похвастаться тем, что видел это животное пьяным. Если «свободен», то «как птица», хотя вряд ли кто может назвать свободным существо, которое, не покладая крыльев, носится в поисках червячков и личинок своему прожорливому потомству. Чего ж удивляться, что первый секретарь райкома воспользовался уже не однажды использованным сравнением:
— Ну и дождина! Хлещет как из ведра!
Подполковник Дыряев промолчал. Еще в Бузулуцке он предложил центуриону занять место в машине. Присутствие экстрасенса было неприятно подполковнику, в нем угадывался махровый и циничный жулик, которого Дыряев с удовольствием посадил бы в камеру, но поскольку это было пока невозможным, хотя бы заставил его топать пешком по дождю. Соседство с жуликом в одной машине роняло подполковника милиции Дыряева в собственных глазах. Однако центурион оказался настоящим руководителем. На предложение подполковника он только пожал плечами.
— Хомо сум, — сказал он. — Эрго транзит а ме каликс исте! Плазиет дийс!
Конечно, центурион был человеком, и чаша сия никак не могла миновать его. Черт его знает, угодно ли это было богам? Но надо сказать, что римский начальник показал, как говорится, уби эт орби! В силу этого Федор Борисович испытывал недовольство собой. Духовное превосходство центуриона угнетало подполковника. Ишь гордый какой! Мол, катитесь, а я с солдатами своими под дождем мокнуть буду. Ну и хрен с тобой — не сахарный, не растаешь! Катись в эти свои… в Палестины! Откуда пришли эти Палестины, Дыряев не знал, но сама эта мысль доставляла ему определенное моральное удовлетворение. Конечно, прав Митрофан Николаевич — нечего этим римлянам делать в нашем времени. У них свои лексы, а у нас — свои. Не фига со своими лексами в чужой урбос соваться!
Он посмотрел в боковое зеркало на мерно вышагивающих по грязи легионеров и снова ощутил сожаление и угрызения совести. А все-таки термы они классные отгрохали! И хозяйственные — вон в скольких дворах колоннады стоят и цветники разбиты. А уж о законопослушании и говорить не приходится: глядя на них, даже гаишники на дорогах стеснялись мзду брать.
Дыряев вдруг подумал, что если говорить честно, то о римлянах ничего, кроме бене, сказать было нельзя. Ничего низи, кроме хорошего. Положа руку на сердце, надо было сказать, что поведение римских товарищей было чистым укором для всей бузулуцкой милиции. О си сик омниа! Но вечно так продолжаться, к сожалению, не могло.
Теперь они уходили. Может быть, они уходили обратно в свое прошлое, и уходили навсегда. Подполковник вспомнил строку Овидия, которую ему накануне с большим чувством продекламировал Птолемей Прист:
О навес референт ин мар то нови Флуктус!
Теперь подполковник чувствовал всю тоску этого стихотворения и снова ощутил сожаление. Себе-то чего врать? Друга он терял, настоящего друга. «Каждый должен жить в своем времени, — успокаивал себя Дыряев. — Если каждый будет по столетиям шастать, то весь мир изменится. Одно беспокойство от этих путешественников во времени! И мужики успокоятся, некому будет у них баб отбивать!»
Он тешил себя этими мыслями, но в глубине души крамольно и сиротливо жила совсем иная мысль, не вписывающаяся в какие-либо правовые рамки: а что, если римляне правы и самое надежное воспитание хомо новалис заключается именно в своевременной и беспощадной порке, без излишней жестокости и исключительно для того, чтобы внушить нарушителю незыблемость вечных истин — ах, чуки-чуки, не ук-ра-ди!.. Не со-тво-ри!.. Чуки-чуки! Не воз-лю-би!.. Хм… да… Последнее, впрочем, и Богу не возбранялось!
Митрофан Николаевич Пригода ехал навстречу грозе с разгорающейся в душе надеждой. Не было, понимаешь, печали, так нет, этих голоногих принесло. Одно беспокойство от них было и полный раздор привычной и размеренной жизни. Это ведь как посмотреть, можно и конфискацию самогона за грабеж расценить, а в усмирении пьяных «чигулей» обычный бытовой мордобой увидеть. А о моральном облике этих выходцев из прошлого и говорить не приходится, одни жалобы от бузулукчан поступают. Казалось бы, проверенные партийные кадры, и те в душевном смятении находятся. Нет, господа цивиси да квириты, нечего в чужом времени к женщинам приставать. Нечего, понимаешь, свои имперские амбиции и фашистские замашки показывать! Не дадим избивать и грабить наших славных сельских тружеников! И ведь добро бы, так сказать, православные были, так ведь нехристи, мужиков своих да цезарей бабскими именами называют, на идолов молятся. Таким дай волю — в однораз партийных работников за ноги на крестах вдоль грейдера распинать начнут.