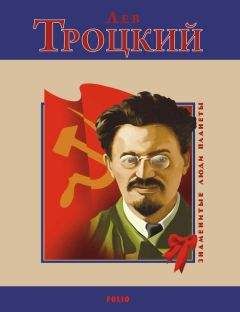— Так неможно, — со страхом возразил Манулов. — Если такое случится хоть один раз, это напрочь подорвёт торговлю и доверие купечества. Мэр не решится.
Слова Щавеля словно выкатывались изо рта ледяными глыбами прямо на стол и вызывали онемение членов:
— Только плеть! Только топор! Иначе следующим губернатором будет китаец. А он ещё и генерал, значит, ждите набора ходей в армию. Потом в колодки будут заковывать уже вас и, что куда хуже, конфисковывать ваше имущество.
Манулов долго думал, мощно соображал. В глазах светилось то, что поэтически одарённый раб из его литературного цеха назвал бы стремительным полётом быстрокрылой мысли.
— Не конфискуют, — осмелился возразить Манулов, просчитав все за и против. — Так они не только бизнес на корню подорвут, но и воевать придётся со всем народом. Необученная армия из китайских призывников проиграет объединённому войску других городов Великой Руси, а потом взлетит разбойничья дубина крестьянской войны и размозжит голову китайскому дракону окончательно. Ничего подобного даже в Сибири не случалось. Ходи, как муравьи, корни подгрызть умеют, но воины из них никакие. Я знаю, не в их характере открыто конфликтовать. Прежде всего, война подорвёт торговлю, а китайцы обожают четыре занятия — торговать, жрать, стричься и размножаться. Это столпы их мира, как ножки у стола, на которых зиждется Поднебесная.
— А ты, легкомысленный, — обронил Щавель.
Манулов помотал головой:
— Отнюдь. Я их знаю, давно здесь живу. Хотя ты навёл меня вот на какое соображение. Если сейчас ходи соберутся и выдвинут своего кандидата, он будет русским. Самым славянским, самым неподкупным, который будет говорить правильные слова и вызывать всеобщее доверие. Даже избиратели с других сторон признают его достойным генерал-губернаторской должности, пусть на своём месте он и начнёт потворствовать китайским купцам. Я знаю двоих подходящих, которые идеальные русские и впишутся за китайцев. Ерошку Пандорина-сына и министра путей сообщения.
Помолчали ввиду жанжаковой кызым, которая принесла здоровенный поднос с исходящим духмяным паром мисками. Отведали, пока с пылу, с жару. Запили бодрящим кумысом.
«Путей сообщения, значит», — пальцы старого лучника стиснули рукоять изделия мастера Хольмберга из Экильстуны.
— Была в допиндецовые времена легенда «золотого миллиарда», — отдуваясь, выдохнул Карп, с нажористых явств знатного работорговца ажно пот прошиб. — Так называли миллиард китайцев, расстрелянных лично Сталиным. Ходи в ту пору плодились куда пуще, нежели в наши дни, их численность надо было постоянно регулировать. Вот и казнили в промышленных масштабах, но тогда есть человечину было не принято и трупы неэффективно зарывали в яму с хлоркой.
— Дикие были времена, — загоревал Отлов Манулов. — К счастью, наступил Большой Пиндец, после которого воцарилась эпоха нравственного прогресса.
— У Великой Руси два союзника — работорговля и каннибализм, — отчеканил Щавель.
— За это и выпьем, — поспешил наполнить пиалы издатель.
— Что мне в Муроме нравится, — благодушно пробасил Карп, — на улице бродячую шавку не встретишь и все кошки домашние. Ни крыс, ни ворон, ни голубей. А всё благодаря китайцам.
— Что мы сейчас едим? — прохладным тоном осведомился Щавель.
— «Жанжак» — место халяльное, — успокоил его Манулов. — Санинспекция отсюда не вылезает. Жирует в три смены. А насчёт китайских купцов я вот что хочу сказать. Если выборы пройдут в их пользу, они накопят сил и средств и принесут большой бизнес к вам на Святую Русь.
— Пусть приходят. Мы басурман гоняли, — ответствовал старый лучник.
— Они придут с деньгами, а не с оружием. Москва не устоит.
— Уже не устояла. Я только что оттуда.
— Слышал о тебе, — с пониманием улыбнулся Отлов Манулов. — После того, как ты зашёл в Москву, менеджеры побежали из неё как тараканы, а народ оживился, потому что русскому с москвича взять не грех.
— Русскому с москвича не взять — грех, — поправил Щавель. — Нагляделся в дороге на эту падаль. Я бы и сейчас не отказался вернуться в Москву с пожеланиями всяческого добра. Вся гниль по стране расползается именно оттуда.
— Здесь есть некоторая неточность, — осторожно начал Манулов. — Москвич — это не национальность, а профессия. Когда в Москву придут китайцы, они за три года станут москвичами гораздо большими, чем жители, которые в ней родились.
— Их там уже с допиндецовых времён злая стая, — возразил Карп.
— Это простые люди, а придут китайские купцы с капиталом и своими эксклюзивными товарами, зная, что тамошние клиенты падки на исключительные вещи. Закрутится обширная торговля. Где торговля, там согласие, как в Великом Новгороде с греками. Их, я слышал, недолюбливают из-за некоторых особенностей античной культуры, но мирятся с присутствием по причине несомненной выгоды.
— Они безобидные, — сказал Щавель. — От греков никогда не видели зла.
— От китайцев у нас тоже одна польза, только от губернатора мокрое место осталось, — аргумент Манулова был неоспорим. — Святую Русь удерживает на плаву лишь традиция наследования или узурпации власти. В Великой Руси власть перелетает из рук в руки как ночная бабочка.
— Поэтому у вас такой бардак, — отрезал Щавель. — Власть не дают, власть берут и крепко держат при себе как жену. Это злое безумие — выбирать себе царя. Что здесь, что в Орде. Неудивительно, отчего вы боитесь любую плесень. Вы дорожите выгодой, ставя её выше чести, и считаетесь не только с басурманами, но даже с китайцами.
— Зато у нас есть торговая палата, крупнейший в мире невольничий рынок, оперный театр, гвардия ахтунгов и не самое худшее издательство. Моё, — с вызовом загнанного в угол зверя возразил Отлов Манулов. — Репрессии не наш метод. По той же причине избегают репрессий наши соседи.
Щавель не счёл нужным возражать. Он сидел лицом к двери и смотрел на входящих. В зал то и дело подваливали зеваки с площади, среди которых затесался высокий широкоплечий парень с обветренным, но простоватым лицом. На фоне загорелых мачо, брутальных позёров, мускулистых ахтунгов и наглых бретёров он даже не особенно выделялся. Короткая кожаная куртка с кокетливо оторванным правым рукавом и обносившаяся лесная одёжа выглядели настолько дико, что среди гламурной публики парень казался своим. Щавель не сразу глазам поверил, сначала подумал, что обознался.
— Что ты тут делаешь, сынок? — громко спросил он.
— А ты? — вытаращился Жёлудь.
* * *
Для Жёлудя день выдался настолько чудесный, что из Мурома расхотелось уезжать. Он бродил по улицам, предоставленный самому себе, жадно впитывая местный колорит. Утро с отцом и Карпом прошло в работорговом раю. Прежде Жёлудь и вообразить не мог, каким бывает невольничий рынок. Длинная лавка с железными кольцами, а то и простое бревно перед пыльным пятачком на базарной площади, вот и весь торг, который довелось видеть в Тихвине и окрестностях. Чаще же сделки совершались частным порядком: зашёл человек к человеку, состряпали купчую, опрокинули рюмку водки и повели работника на новый двор. Тем более впечатлил парня размах товарооборота Великого Мурома. Здесь билось настоящее сердце города, наполненное живой кровью. Огроменная площадь была обнесена вместо стен четырёхэтажной гостиницей с решётками на окнах, где работорговцы могли разместить двуногий груз. Из нумеров выглядывали бородатые хари — белые, смуглые и даже лишённые растительности африканские. Печально, а иные пытливо зырили на волю первоходы, цеплялись за решётки побелевшими от гнева пальцами, исторгали из груди проклятье деспотам и тиранам. По-скотски тупо смотрели на мир перекупленные не впервой. С бабьей стороны, исправно отделённой от мужескаго конца, доносился плач и причитания. Худо переносили бабы неволю, хотя, казалось бы, чего плакать и причитать? — живи, да радуйся смене обстановки за чужой счёт. Только не умели дуры деревенские мыслить позитивно, а по гендерному несовершенству своему ударялись в душевные терзания, находя в горести утеху, кою мужики отыскивают в травле баек и азартной игре. Пожив такой жизнью пару дней, край, неделю, раб переходил к другому собственнику.
Карп сбыл мужиков командира Щавеля в течение часа. Боярину требовалось подготовиться к обеду у мэра, и он не мелочился. Пока стояли в очереди на торговый помост, Жёлудь ошивался по рынку и приметил активность местных рабов. От пригнанных невольников они отличались наличием ошейника и тягой к самореализации. Рабы читали газету «Из рук в руки», совещались промеж собой, обсуждая актуальность рабовладельцев, отслеживали господ на подъёме и шли молить самого перспективного, чтобы выкупил у прежнего хозяина. Карп растолковал молодому лучнику, что по субботам это дозволяется. Свободный рынок Великого Мурома способствовал рабу раскрывать свой вещный характер, проявлять инициативу и предприимчивость. Из таких получались самые лучшие давальцы в лавках, помогальники в оптовой торговле и даже ключники. Виденные Жёлудем мобильные рабы представляли собой наглое говорящее имущество, выглядели борзее стаи колымских либерастов, и парень с замиранием в душе представлял, как ведут себя самые прошаренные из них, кто уже выбился в люди. Здесь был настоящий тренажёрный зал невидимой руки Рынка. Накачавшись, Рынок распускал свои невидимые руки и трогал соседей за влажное вымя, выдаивая денюжку по взаимному согласию сторон.