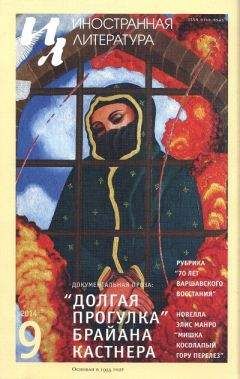— Не скушаете вы ясна сокола, подавитесь, твари!
Воронье со смеху на землю падает, кароконжалы по земле катаются да еще пуще улюлюкают. А страшный царь воронов вопит во всю глотку:
— Молодец на обед! Конь на ужин!
— Какой конь?! — удивился Аэрон, глянул вниз, а и в самом деле — скачет он на богатырском коне. Шкура гнилая на нем клочьями висит, ребра желтые выпирают, друг о друга трутся, грохочут, зеленым огнем глаза горят. Скрипит конь волчьими зубами:
— Не отпущу, пока крови своей не дашь напиться! Богатырь-рь!
Тут уж Аэрон и перетрусил, крутнулся через голову, грохнулся оземь, глядь — и пропало все.
Лес как лес, деревья как деревья, луна в озере отражается, к озеру тропинка, по ней Верея спешит. Подскочил Аэрон, потирая руки, и за нареченной побежал, пока она в Студенец не окунулась. Бежит, сил не жалея, бормочет: «На одном дыханье догоню!» — а не становится Верея ближе, словно тропка проклятущая длиннее делается. Вампир уж сипит, взопрел, рубаху на груди порвал, а невестушка все так же далека, идет по тропинке, приплясывает со светляками ночными. Тут он не выдержал, распахнул крылья и быстрей стрелы к ней слетел. Ухватил за руку, только рот раскрыл с упреками, да так и задохнулся — мертвячка перед ним, и не он уже, а она его за руку держит, да так крепко, что и не вырвешься! Скалит черные зубы и скрипит:
— Вот и «женишок» мой. А запыхался-то как! — и ну к нему ластиться. Потемнело у Аэрона в глазах, попятился он:
— Попутала ты меня с кем-то, красавица.
— Как это попутала, а колечко кто мне на пальчик надевал? — и тычет ему в лицо фамильным перстнем, да не Вереиным, а его собственным, на большой палец надетым. — Хоть и жарко в нем летом, а ношу, — мило так протянула покойница, а вампир зубами скрипнул да затопотал ногами:
— Где ты, подлюка рыжая?! Шутки шутить изволишь?!
Мертвячка заплакала, пустив слезу из пустых глазниц:
— Не любишь ты меня, женишок. Вот скажу дядьке ворону, заклюет он тебя!
И снова — ночь, луна, воронье и зверье.
И началось. Сколько он потом ни тужился, так до конца все и не вспомнил. Только гоняла его Древняя нечисть по всему лесу, то в прятки играли, то в салки, а уж сколько раз он у Вереи прощенья вымаливал да заместо лошади по лесу возил, и не сосчитать! Лишь под утро еле-еле добрел до пасеки Михайло Потапыча и там, в холм травяной уткнувшись, уснул мертвым сном. Но и во сне ему еще рыжая злыдня являлась, укоризненно спрашивала:
— Будешь мне еще изменять прилюдно?
Пока не бухнулся он ей в ноги и не принялся умолять, чтобы оставила она его в покое и не мешала умирать.
Каково же было его удивление, когда проснулся он наутро в Вереиной летней резиденции, на широкой кровати, под парчовым балдахином. Свеженький как огурчик и без единого следа бурно проведенной ночи. Солнце светило в витражные окна, на которых бодались единороги, и цветные зайчики скакали по кровати. А напротив стоит злыдня рыжая с блюдом серебряным, а на блюде чарка вина и коврига медовая да яблочко наливное. Ухмыляясь, кланяется и речь говорит:
— Хорошо ли тебе спалось, жених мой любый? — А эпсы с алебардами, в золотых кафтанах, с алыми кушаками клыки скалят и рычат:
— Славу лорду Урлакскому!
— Издеваются, — пожаловался «жених» неизвестно кому. — Ишь, хари-то за лето наели!
— Да кто ж над тобой издеваться-то позволит?! — приподняла я бровки. Аэрон запустил в меня подушкой:
— Ну ты и стервь! Изжогу я заполучил, а не невесту! И кто на тебе жениться-то отважится!
Я взяла с подносика цветочек, понюхала его, закатила глазки:
— Ох, и не знаю. Девкой, наверно, так и помру!
Аэрон фыркнул, выпил вино, мы подрались подушками, и я повела его по замку, заодно и камень сновидений показала. Аэрон боязливо потыкал его пальцем и сказал:
— И этот тоже харю наел. Я же его помню! С полкулака мне был, а теперь с целый, да какая-то перетяжка посередине появилась.
Пока мы таращились на камень, от леса послышался заливистый свист Анчутки и гнусавый голос Индрика:
— Ну сколько вас ждать?! Тут мясо стынет, вино киснет, квас выдыхается!
Я схватила за руку сопротивляющегося Аэрона и под мерзкий хохоток Карыча поволокла его знакомить с Древними по новой. Так мы и пировали. Я ластилась то к Анчутке, то к Горгонии, жалуясь, какая у нас наглая и невоспитанная вновь поступившая нечисть, на что Карыч радостно каркал:
— Пер-ревоспитаем!
— Перевоспитаем, — эхом вторил ему конь Индрик, придвигаясь ко мне поближе.
— Только не как со мной, — попросил Аэрон. — Дети все ж.
— А то мы не понимаем! — тоном знатока сказал Карыч. — Все будет гор-раздо, гор-раздо стр-рашнее!!!
На том и порешили. До границы леса я доехала на Ваське, а недовольный Индрик довез Аэрона. Карыч из поднебесья каркал:
— Будет пожива, будет пожива! — А на прощание добавил, по братски похлопывая Аэрона по плечу: — Ты уж смотр-ри, Вер-рею не обижай, а то мне до Вежи долететь — р-раз плюнуть!
— Обидишь ее, как же! Да она и без родичей-то всех в страхе держала, а теперь так вообще… — безнадежно махнул рукой Аэрон.
Березина прильнула к нему всем своим нагим телом и томно поцеловала в щечку. Вампир смутился, стрельнул в мою сторону глазками, покраснел и, рявкнув:
— Да ну вас всех! — бодро зашагал в сторону Вежа.
— Анжело! Ну Анжело! — Я вертелась юлой, пытаясь заглянуть в глаза демону. — Ты же обещал! И вообще, ты до конца жизни мой должник!
— Твоей или моей? — уточнил демон, вновь возникая за левым плечом. — Если твоей, то мы можем это устроить! — Он забубнил мне в ухо: — Никогда не посягай на личные вещи наставников твоих, уважай учителя и не огорчай своим поведением…
— Ну Анжело! — последний раз проскулила я. Демон ухмыльнулся, разжал кулак, явив что-то смятое, как носовой платок, причем уже использованный.
— Что это?!
Демон тряхнул рукой, и замызганный кусок ткани превратился в струящуюся черную с красной каймой учительскую мантию.
— О! Анжело! — восторженно заверещала я, схватив ее и прыгая по комнате. Потом натянула мантию, повертелась перед зеркалом, заметила небольшую монограмму на рукаве:
— Офелия Марковна. Ты спер мантию ботанички?!
— Не спер, а взял на время. Она все равно вернется лишь через три дня, к началу учебы.
Я снова уставилась в зеркало. Мантия висела не так свободно, как на Кощеихе, даже, можно сказать, подчеркивала достоинства фигуры. Анжело протянул очки, я нацепила их на нос, отметив, что лицо мое от этого стало ужас каким стервозным.
Дверь хлопнула, впуская Алию и Лейю.
— Ну у тебя и видуха! — хмыкнула первая, а вторая потрясла темным париком.
Я выпуталась из мантии и замахала руками на Анжело:
— Все, кыш, кыш, мне переодеться надо.
— Дай я! — Лейя развернула меня к себе, усадила на стульчик, сунула в руки мешочек с косметикой и, глубоко вдохнув, словно собиралась броситься в воду, закатала рукава.
— Ну вот, готово! — Мавка нахлобучила мне на голову парик и развернула лицом к зеркалу. Оттуда на меня глянула ну чистая злыдня. Волосы собраны в пучок, бровки тонкие и брезгливо приподняты, подведенные глазки недобро сузились, а алые губы кривятся в насмешке.
— Ну вылитая упырица! — захохотала Алия и протянула мне очки, которые только довершили сходство со злобной нечистью.
Подоткнув подол, Любша, наша школьная поломойка, плюхнула тряпку в ведро и принялась за работу, напевая для души:
— А синее море ярится, и бьется о скалы прибой.
Вернися домой, дорогая дочурка,
Вернися к папаше домой.
Зачем тебе люди и суша?
Ты дочка морского царя.
Вернися домой, дорогая дочурка,
Вернись, умоляю тебя!
Мы выглянули из-за угла, но Рогач сказал:
— Цыть! — и задвинул наши головы обратно.
И вовремя — дверь в кабинет директора открылась. Феофилакт Транквиллинович замер на пороге, Любша улыбнулась ему в свои тридцать два зуба и споро стала ликвидировать лужу в коридоре:
— С праздничком вас!
Наставник самодовольно улыбнулся, кивнул, поздоровался с Рогачом, важно вплывшим в коридор из-за угла. По случаю праздничка кладовщик избавился от своего фартука и нацепил кафтан, а сморкался только в розовый батистовый платочек, вышитый Акулиной Порфирьевной.
— Все ты в трудах, Любша, только все одно затопчут.
— Ой, да лишь бы не подожгли! — отмахнулась Любша. — Надысь опять эту рыжу шутоломку видала, шушукались, опять яку пакость задумали.
Рогач подпрыгнул, нервно оглядываясь, словно опасался, что мы уже близко, а в глазах Феофилакта Транквиллиновича появилась задумчивая грусть:
— И давно они шушукались?
— Дак надысь! — Директор и кладовщик озадаченно переглянулись, пытаясь представить эту единицу времени, а Любша их успокоила: — Да навряд ли попалят! Над молодыми будут шутковати, а че — положено!