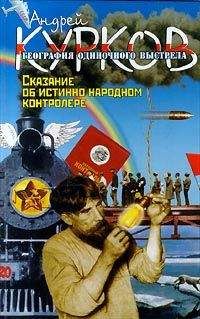Комсомолец пожал плечами.
Пламя разгоралось сильнее, а старик Абунайка все завывал и завывал на своем языке, размахивая руками и время от времени кружась, как заводной волчок.
— Я назад пойду, а то холодно, — проговорил комсомолец.
— Куда назад?! — спросил его Павел.
— В балаган, у старика заночуем сегодня… со мной пойдешь?!
Добрынин подумал и решил остаться и посмотреть на местные обычаи.
— Ну как хочешь, — произнес напоследок Цыбульник.
Добрынин подошел поближе к огню, только остановился он чуть в стороне, чтобы не мешать Абунайке, который теперь выкрикивал какие-то звуки, поворачиваясь то к огню, то к слушавшим его местным жителям.
И вдруг народный контролер почувствовал, как кто-то толкает его в спину, и обернулся, ощущая в своем теле дрожь: то ли от испуга, то ли от холода.
Сзади стоял уже знакомый Добрынину местный житель, который совсем недавно предлагал народному контролеру обменять котомку на соболя.
— Сначала привет твоему гладкому лицу и твоей мудрости, потом разговор, — произнес местный житель, заглядывая в глаза народному контролеру.
— Привет, — оторопело ответил на странную фразу Добрынин.
— Русский человек вчера приехал? — спросил местный житель. — А я здесь давно живу и много знаю. Зовут меня Ваплахом…
Когда местный житель назвался, припомнилось Добрынину, как называл этого парня комсомолец, и призадумался он, не услыша в этот раз в нерусском имени ничего ругательного. А ведь Цыбульник имя по-другому произносил…
— Я — народ не местный, — продолжал парень по имени Ваплах.
— Да какой же ты народ?! — удивился Добрынин и тут же почувствовал, что приятный теплый хмель прошел, и все в народном контролере и внутри, и снаружи стало холодным и тяжелым. — Народ — это когда много людей, а ты — один человек…
— Не-е-ет, — упрямо протянул Ваплах. — Я народ — урку-емец… Больше, кроме меня, в этом народе никого нет, не осталось…
Тут Добрынин задумался. Об урку-емецком народе он никогда не слышал, но это не было удивительно, ведь раньше он думал, что сразу за Москвой страна кончается и начинается заграница.
— Ну вот… а как русского человека называть? — вдруг сам себя перебил вопросом Ваплах.
— Павел Добрынин…
— Если русский человек Добрынин останется одним русским — значит станет он русским народом… а если он потом умрет, то больше русского народа не будет…
Странные слова Ваплаха немного озадачили Добрынина а тут еще Абунайка стал подпрыгивать с громкими выкриками, и с каждым прыжком он приземлялся ближе и ближе к народному контролеру. Пламя постепенна притухло, местные жители негромко причитали нестройным хором, постоянно повторяя слово «ОЯСИ-КАМУЙ». Ногам было холодно, а тут еще этот Ваплах, который считает себя народом…
— Будет русский народ, будет! — немного раздраженно и устало сказал Добрынин.
— Пусть русский человек не обижается, его народ всегда будет, а мой народ умрет…
— Что за черт! — народный контролер вздохнул тяжело и посмотрел на парня прищурившись. — Чего он умрет?!
— Я умру, и народ умрет… а больше в народе никого нет… всех убили…
Захотелось Добрынину как-нибудь повежливее отвязаться от этого непонятливого местного жителя, возомнившего себя народом, и кашлянул народный контролер, подошел к Абунайке, который, попрыгав вокруг костра, остановился рядом и стоял спокойно, видимо, отдыхая. Подошел к Абунайке и сказал:
— Может, назад в балаган пойдем? .
— Пойдем-пойдем, уже-уже пойдем,-старик закивал головою. —Я уже все сделал.
Добрынин оглянулся и с облегчением заметил, что Ваплах исчез.
Местные жители поклонились старику, попрощались с ним словесно и тоже пошли куда-то. А старик, дотронувшись до руки Добрынина, чтобы привлечь его внимание, повел его назад в балаган.
Шли они медленно. В голове у народного контролера было тяжело и туманно.
Когда вошли в балаган, увидели лежащего на полу, раскинув руки, комсомольца. Он зычно храпел.
— Надо подвинуть и накрыть, — деловито сказал старик. — Цыбульник — человек слабый, простудиться может.
Из последних сил помог Добрынин Абунайке затолкать Цыбульника к «кровати» и свалить на него несколько оленьих шкур. После этого народный контролер устало уселся на бурый мех пола и перевел дух. Гул в голове стих, и он спросил старика, есть ли у того,еще немножко молочной водки.
— Зачем немножко?! — удивился старик. — Много есть, много! — и он снова полез за кровать, вытащил еще одну бутыль.
Разлили по кружкам, выпили. Снова по внутреннему миру Добрынина полилось нежное, приятное тепло, и окунулся он полностью в это тепло и понял, что если б сейчас еще собака залаяла — полное бы счастье возникло в чувствах народного контролера. И тогда он спросил старика:
— Товарищ Абунайка, а собаки твои лают?
— Очень редко… они хорошие, смирные…
— А заставить их гавкнуть можно? — продолжал, допытываться Добрынин.
— А зачем, они хорошие, смирные… — бубнил старик.
— Да я очень хочу лай послушать. У меня там далеко, дома, собака есть, такой звонкий пес… Митька… — народный контролер говорил так душевно, что не привычный к подобным разговорам Абунайка даже рот открыл.
— Русский далекий гость свою собаку любит! — радостно сказал он. — Хочет лай послушать?!
— Очень хочу!
— Абунайка сделает… Абунайка гостей любит… И старик вышел из балагана. Комсомолец храпел уже потише, или же просто оленьи шкуры, которыми он был накрыт, не пропускали его зычный рык наружу. А Добрынин наслаждался своим состоянием.
— Ары… ары! — донеслось до народного контролера. Это старик втаскивал в балаган сонную собаку, которая не очень хотела входить и лениво упиралась лапами.
— Ары-ары! — приказывал ей старик, тащя ее за загривок прямо к гостю.
Наконец он дотащил пса, усадил его между собою и Добрыниным и, показывая на народного контролера, заговорил с собакой по-русски:
— Видишь, далекий гость пришел, русский гость… лаять надо, «ав! ав!» Но собака водила мордой то на хозяина своего, то на Добрынина и, казалось, совершенно не собиралась лаять.
— Ары-ырысь, видишь, русский гость просит, пришел, ну лай, лай! — снова попросил собаку хозяин, но она все равно молчала, и тогда старик взял и с размаху стукнул ее пустой кружкой по спине. Собака гавкнула, а старик, обрадовавшись, стукнул ее еще раз. То ли от боли, то ли от неожиданности собака залилась звонким красивым лаем, и, очарованный родными, привычными звуками, Добрынин прикрыл глаза и поплыл в мягкий и теплый весенний сон, где лежал он на покрытой одуванчиками полянке, а рядом игрался, лаял и катался на спине любимый пес Митька.
Старик все лупил и лупил своего пса, а пес лаял все громче и громче, и даже комсомолец проснулся и выглянул из-под сваленных на него оленьих шкур.
— Чего шумишь? — спросил он очень недовольно, ощущая кроме общего неприятного шума в балагане еще и собственную головную боль.
— Далекий гость просил пса полаять, — объяснил старик, перестав бить собаку кружкой.
Комсомолец бросил нехороший взгляд на Добрынина, потом, обернувшись к старику, сказал:
— Он же спит! Выгони собаку
Добрынин слышал эти слова, и очень не понравились они ему, но сил открыть глаза и сказать комсомольцу: «Нет, я не сплю, я собаку слушаю!» не было, и вздохнул тяжело во сне народный контролер. И собака замолчала, и вообще тихо стало вдруг, тихо и тоскливо, и сразу исчез весенний сон, в котором только что пребывал Павел Александрович Добрынин, а вместо этого сна появился другой, холодный и неприятный, в котором народный контролер бежал по снежной пустыне, а за ним следом гнался на аэросанях с плохими намерениями местный житель по имени Ваплах.
* * *
После пробуждения, оказавшегося довольно тяжелым, Добрынин и Цыбульник позавтракали тонкими полосками сухого мяса, которое с трудом лезло в горло из-за своей солености. Запили завтрак кислым молочным чаем, приготовленным Абунайкой неизвестно из чего.
— Пусть русский человек Цыбульник скажет русскому человеку Кривицкому, что Абунайка устал и работать не придет… Хорошо?
Комсомолец кивнул.
Выйдя из балагана, Добрынин обратил внимание на общее просветление заполярной ночи, ставшей теперь уже не синей, а светло-голубоватой. Он с интересом глянул на низкое небо — цветные радужные волокна северного сияния были едва видны.
— Утро что ли? — спросил он Цыбульника. Цыбульник тоже посмотрел все еще мутным взглядом по сторонам.
— Да вроде светает… — протянул он. — Эскимосня еще спит, а мы — на работу… — в голосе у комсомольца было столько тоски, что Добрынин сразу вспомнил о своей малой родине, о деревне Крошкино.
Неспеша подошли к городу, поднялись на порог председательского деревянного дома, зашли.
Кривицкий сидел за столом под своим меховым портретом и перечитывал какието бумаги.