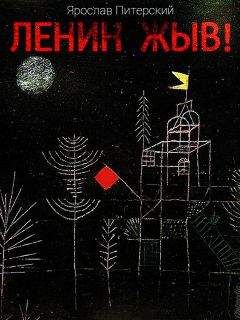Когда золотой свет очистил их души от ночной мглы, Шурик сказал:
— Ты знаешь, мне уже давно не было так страшно. Такой адреналин, однако…
— Признаться честно, я тоже испугался, — кивнул Смерть. — Но не тогда, когда ты иероглиф этот рисовал, а позже, когда мы уже отъехали. Иероглиф на двери нарисовать — это раз плюнуть, да и фонари выключить — тоже трюк простой. Но страшно другое… Ты уверен, что он поймет твой мессач?
— Уверен, — кивнул Шурик. — Этот иероглиф дядя Сэм точно знает.
— А во сколько он обычно просыпается? — спросил Шурик.
— Если ничего не изменилось за двадцать лет, Сэм рано ложится и рано встает, — вздохнул Шурик. — Часов в шесть проснется.
— Вот теперь мне по-настоящему страшно, — кивнул Смерть. — Поехали-ка домой.
Над Москвой разгоралось утро нового дня. Утро несет с собой перемены, обновление, очищение. Но утро также обнажает и грязь, скрываемую ночной мглой.
В утреннем свете видно все — то, что близко, и то, что пока вдалеке.
Действия, мотивы, сети тайных интриг, магические узлы астральных чар и кармических связей.
А над землей уже пять тысяч лет плывет в золотой лодке великий бог Ра и с улыбкой наблюдает за людской суетой, кажущейся ему возней в муравейнике планеты Земля.
Сегодня утром в муравейник плюхнулся жук. Это вызвало взрыв возмущения, сломало привычный уклад жизни.
А Солнце продолжало светить, как гигантский софит, освещая съемочную площадку этого мира.
Солнце мягко согревало утренние московские пробки и заглядывало через тонированные стекла даже в салон черного «Шевроле», упорно убегавшего от неизбежности.
Солнце разбудило спящий город. Проснулся ашрам Свами Гималайского. Проснулся Фердинанд, сегодня удачно разминувшийся с женой.
Проснулся и тот, о ком пойдет речь дальше — он пока не подозревал, ЧТО сегодня откроется ему в этом свете нового дня, но уже чувствовал своим шаловливым копчиком засаду прямо по курсу времени…
О, утренняя Москва, как ты прекрасна! Нет слов, чтобы признаться тебе в любви, о утренняя Москва, сияющая шпилями высоток, звучащая басом подземки и переливами симфонии утренних пробок. Так пусть звучит Гимн Солнцу!
Мандажа гарадаг наран шингэлээ
Манантайгаа хоюулаа даа хоо
Мартагдашгуй гурван жил болсон боловчиг
Мансурах нойрондоо хоюулаа даа хоо.
Конец второй книги
Мы похожи до невозможности,
Как две полные противоположности.
Эль Клыгин.
Отрубился в час, а проснулся в три,
Полнолуние выжгло тебя изнутри,
На углу у аптеки горят фонари
И ты едешь —
Ты хотел бы напиться хоть чем-нибудь всласть,
Ты пытаешься, но не можешь упасть,
И кто-то внутри говорит — это счастье,
Или ты бредишь,
Вкус крови лишил тебя слова,
И к бровям подходит вода —
Где-то именно здесь
Пал пламенный вестник
И сегодня еще раз все та же среда —
Да хранит тебя Изида!
Ты подходишь к кому-то сказать «Привет»,
И вдруг понимаешь, что нет ничего конкретного
И прохожие смотрят тебе вослед
С издевкой;
На улице летом метет метель,
И ветер срывает двери с петель,
И прибежище, там, где была постель, теперь —
Яма с веревкой;
Так взлетев вопреки всех правил,
Разорвав крылом провода,
Ты оказываешься опять
Там, где всем нужно спать,
Где каждый день, как всегда —
Да хранит тебя Изида!
Все говорят и все не про то
Эта комната сделана из картона
И ты смотришь вокруг — неужели никто
Не слышит?
И вдруг ракурс меняется. Ты за стеклом,
А друзья — в купе уходящего поезда —
Уезжают, даже не зная о том,
Что ты вышел.
И оставшись один на перроне,
Выпав из дельты гнезда,
Теперь ты готов
К духовной жизни,
Но она тебе не нужна —
Да хранит тебя Изида!
И ты слышал, что где-то за часом пик,
В тишине алтаря или в списках книг,
Есть неизвестный тебе язык,
На котором
Сказано все, что ты хочешь знать,
В чем ты боялся даже признаться
И отчего все святые глядят на тебя
С укором.
Перестань делать вид, что не можешь понять их
Ты один на пути навсегда —
Улыбнись, растворись
В шорохе листьев,
В шепоте летнего льда —
Да хранит тебя Изида!
Борис Гребенщиков.
Будильник прозвенел в 6:45 утра. Он открыл глаза. Машинально протянул руку, отключил будильник. Глубокий вдох, выдох — и он поднялся на ноги одним рефлекторным движением.
В его трехкомнатной квартире улучшенной планировки вся мебель была расставлена, что называется, «оптимально». За двадцать с лишним лет он ни разу не совершил перестановку. Даже новый книжный шкаф точно вписался на место старого — миллиметр в миллиметр.
Он быстро заправил постель, идеально ровно — ни складочки на одеяле. Затем направился в ванную. Каждое утро он повторял этот маршрут, доведенный до автоматизма за многие годы. Этот путь он мог бы проделать даже с закрытыми глазами…
В ванной комнате та же строгость и точность. Бритва, помазок, крем для бритья, мыло, шампунь, расческа — все расставлено на полочке в идеальном порядке.
Если бы Шурик со Смертью увидели эту ванную комнату, они бы удивились, потому что их утро иногда начиналось с таких сцен:
— Шурик, где у тебя шампунь?
— Понятия не имею, посмотри на кухне, в нижнем шкафу.
— В нижнем шкафу у тебя водка.
— Значит, в верхнем.
— Тут стаканы и чашки… а, вот нашел, за чистыми тарелками…
Здесь все было иначе. В доме Семена Герасимова был воплощен принцип «каждая вещь предназначена для определенного места, и каждое место предназначено для определенной вещи».
Он долго брился — как всегда. Ему в принципе не хотелось отпускать бороду и длинные волосы. Он считал рациональным ходить со стандартной короткой стрижкой, не выделяясь из толпы, поэтому он каждый месяц приходил в парикмахерскую, где заказывал одну и ту же стрижку.
Десять секунд он потратил на разглядывание себя в зеркале. Ничего примечательного. Тяжелая нижняя челюсть. Глаза даже не серые, а какие-то белесые. Волосы совершенно бесцветные. В нем вообще не было цвета. Даже под лучами южного Солнца дядя Сэм не мог загореть. Всю жизнь он был и оставался каким-то обесцвеченным.
Быстро приняв утренний душ (ни одного лишнего движения, никаких попыток насвистывать любимую песенку, подергиваясь под струями горячей воды), он набросил халат и направился на кухню.
Что обычно у людей на кухне? Скажем, открытая пачка печенья на столе. Кружка с недопитым вчера чаем на подоконнике. В общем, чашки-ложки-крошки…
Кухня Семена Герасимова не имела ничего общего с кухнями нормальных людей. Идеальная чистота. Все вылизано до блеска — как будто этой кухней никто никогда не пользовался.
Он открыл стенной шкафчик и достал среднего размера тефлоновую сковородку. Разжег огонь, налил немного масла.
В холодильнике… это страшно представить: никаких недоеденных шоколадок, наваленных между молочными пакетами, никаких примерзших намертво к морозилке полупустых пачек пельменей. Продукты в холодильнике дяди Сэма напоминали королевских гвардейцев на параде — все стояло ровными рядами, любой профессионал позавидовал бы тому, как грамотно все рассортировано по полкам.
Пару яиц он аккуратно переложил на блюдечко, затем достал зелень петрушки и укропа, промыл в проточной воде, нашинковал на специальной дощечке для зелени. Разбив яйца, зажарил глазунью и посыпал ароматной зеленью.
Достав нарезанный хлеб (дядя Сэм всегда покупал хлеб нарезанным, чтобы не тратить время на возню с ножом и крошками), бросил два ломтика в тостер. Вынул из холодильника большой батон колбасы, отрезал шесть кусков. Симметрично разложил их по тарелке.
Хлеб поджарился, кофе сварился. Он машинально бросил взгляд на часы, висевшие на стене. Минута в минуту. Ровно десять минут на завтрак. Две минуты на то, чтобы помыть посуду, расставить все по местам, тщательно вытереть стол…
Вернувшись в спальню, он снял халат, аккуратно повесил его в шкаф, после чего надел серо-зеленую майку, брюки болотного цвета и коричневатый жилет. Включил старый мобильник — без цветного дисплея, без WAP и GPRS. Сунув мобильник в правый нагрудный карман, он зашел в кабинет, достал из ящика стола папку с бумагами, полистал их, затем достал вторую папку, погрузил обе папки в серую сумку, перебросил сумку через плечо и направился к двери.