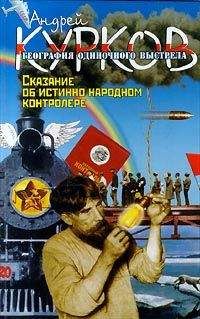Ангел сидел рядом с Катей и смотрел на дрова, горевшие в глиняной печке. Сидел и молчал. Молчала и Катя, хотя сама она была не прочь поговорить, но не казался ей ангел хорошим собеседником, не был он разговорчивым, а кроме того на некоторые ее прямые вопросы вообще не отвечал, несмотря на то, что глаза имел умные. Конечно, поговорить с Катей нашлось бы здесь много охотников, тот же горбун-счетовод, но все они были люди так бы грубые, а от этого молчаливого ангела шло доброе человеческое тепло, которое словно и приковывало Катю к нему.
— Ну а ты где раньше жил? — спросила она его тихонько, пересилив свое последнее решение: «не заговаривать с ним первой».
— В Раю…
Катя закусила губу. Был ей неприятен этот ответ, так как входил он в противоречие с ее мыслями и убеждениями, но тут же поймала она себя на ощущении новом — показалось ей, что вполне может она уже спокойно относиться к таким ответам этого странного человека, называющего себя ангелом во время мирового атеизма. И совершенно неожиданно для себя она снова спросила его:
— Ну и как там жилось?
— Хорошо, — ответил ангел, любуясь огнем в печке.
— Ну а что там хорошего? — допытывалась Катя.
— Войны не бывает, все любят друг друга… много фруктов… воздух такой чистый, почти сладкий… круглый год тепло…
— А если там так хорошо, чего ж ты сюда приехал? А? — не без внезапного ехидства спросила светловолосая учительница.
Ангел пожал плечами. Помолчал пару минут.
— Из любопытства… — признался он. — Странным казалось, что из этой страны после смерти никто в Рай не попадает.
— Как это не попадает?
— Выходит, что все — страшные грешники, — пояснил он.
— У нас?! Грешники?! — негромко возмутилась Катя, и тут же голос ее изменился, успокоился, и уже совсем по-другому, твердо она сказала: — А в рай они не попадают, потому что рая нет!
— А что, ад есть? — спросил ангел.
— И ада нет!
— А куда же они тогда после смерти?
— А в землю! Мы их закапываем, и они растворяются в земле, помогая в ней формироваться чернозему.
— Нет, — спокойно возразил ангел. — Это ты про тело говоришь, а я про другое — про душу. Душу же вы не закапываете!
— Нет, конечно, как ее закопать, если ее нет! — согласилась Катя.
Кто-то сунул ангелу в руку кружку. Ангел поднес ее к лицу, понюхал, и его передернуло от неприятности запаха. Взял, протянул эту кружку куда-то дальше в полумрак, и чья-то рука ее приняла.
— Ну а если души нет, то как же можно разговаривать, думать, любить?
Тут уж Катя задумалась.
— А разве для всего этого нужна душа? — спросила она через мгновение. — Ведь говорим мы ртом, а это часть тела. Думаем головой — это тоже часть тела и очень важная… а любим… для этого тоже часть тела есть у каждого… Зачем здесь душа?!.
На это ангел не ответил.
Кто-то еще рядом разговаривал. Мужской голос и женский. Разговор у них был поживее, и касался он в основном мнений по поводу кастрирования молодых бычков с целью создания из них новой тягловой силы.
В эту ночь палестиняне спали уже на настоящих деревянных лавках, однако без тюфяков, без подстилок из сена или травы лежалось жестко, и многие тайком, уже ночью, когда и печка потухла, и храп вовсю раздавался, сползали на земляной мягкий пол и уже там, поворочавшись, засыпали. Многим и так пришлось спать на полу, так как той ночью все сгрудились в этом коровнике, другие же коровники были как бы необжиты из-за временного отсутствия глиняных печей.
Но вскоре Захар с помощью мужиков поставил и в других коровниках печи, и даже в том коровнике, что для скота был построен, и там две печки он соорудил, говоря, что скотина, она как человек, тепло и ласку любит и от отсутствия таковых легко загибается и дохнет.
А работа на холме и вкруг него кипела беспрестанно. И не было ни одного, кто бы из-за лени или по другой причине этой работы избегал. Ну, может быть, один Архипка-Степан ходил-бродил и все думал, думал, но ведь и это работа, да еще потяжелее другой, так как большого напряжения головы требует и не каждый на такое напряжение способен.
Крестьяне уже что-то сеяли, а горбун-счетовод, выбрав себе помощника и соорудив из трех палок землемерное устройство, отмерял, сколько у них у всех земли имеется, чтобы разобраться с ее полезным использованием. На всякий случай обмерял он и кладбище и даже головой закивал — многовато под кладбищем земли оказалось.
Красноармейцы, решив, что пищу надо делать разной, захватив винтовки, пошли в закоренелый густой лес, начинавшийся за речкой, и на протяжении дня доносились оттуда выстрелы, но никого они не пугали, так как все знали, что выстрелы эти мирные и чем больше их прозвучит, тем сытнее ужин будет, а может, даже и завтрак! И потому радовались даже бабы-крестьянки пальбе, доносившейся из леса.
Ангел, помогавший бабам, не проявлял видимой радости в связи с ружейной стрельбой, а только думал о разном и, конечно, о людях, о палестинянах, с которыми сюда пришел для справедливой и счастливой жизни. И все вроде бы так и шло, и были палестиняне счастливы, да и сам он радовался, но многое в этой людской жизни его как бы смущало, хотя и объяснялось это многое легко — видно, поколение за поколением эти люди жили по таким законам и иначе не могли. Чтобы что-то съесть, надо было кого-то убить: рыбу ли, зайца ли, корову. Что в этом такого?! Ничего, кроме неприятной мысли. Но ведь на то они и люди, а не ангелы, чтобы жить просто и сурово. Ведь и жизнь у них куда сложнее, да и страшнее райской. И погода здесь другая, и законы другие, и камни с неба падают, и наверняка многих других опасностей хватает! Так что легко отвлекался в размышлениях своих ангел от неприятного и так же легко оправдывал в жизни людей все, что ему не нравилось.
Шел он себе вверх от речки, в руках два ведра, полные воды. Шел уже тридцатый какой-нибудь раз, и приятная усталость наваливалась на плечи, и руки от напряжения казались сильными, и как-то даже переставал он иногда чувствовать себя ангелом, и просыпалось в нем нечто чужое, но русское. Казалось ему в какието мгновения, что есть в нем огромная сила и с помощью этой силы он может в одиночку и речку запрудить, и холм разровнять, и много другого — и нужного, и бесполезного — сделать. И самое страшное из всего этого, возникавшего в нем, наверно, от усталости и от несвойственного для ангела труда, было желание понравиться учительнице Кате, которая, конечно, из всех женщин Новых Палестин отличалась не только внешностью своей, но и разумом во взгляде, плавностью движений и — самое поразительное — явным присутствием души, в существование которой она так рьяно не верила! Но был ангел уверен, что именно присутствие в ней души влечет его, а с душою вместе исходит от нее некое удивительное свечение, сравнимое только с невидимыми солнечными предлучами, но только есть в этом свечении слабенький багряный отблеск, который как бы и пугал ангела, и озадачивал его одновременно. Хотя чувствовал ангел, что отблеск этот не силен и, возможно, временен. А поэтому ждал он, ангел, каждой встречи с этой светловолосой девушкой, ждал, чтобы почувствовать на себе это свечение, чтобы согреться ее душою. Но перед каждой встречей, перед каждым поздним вечером, когда палестиняне заканчивали работы, приходилось трудиться и трудиться, не думая об усталости или даже о чем-то другом, более серьезном.
Так и этот вечер наступал неспеша. Ангел, заполнив большущий котел водою, пошел снова к речке, но теперь уже за хворостом для костра. Вызывалась вместе с ним пойти кругленькая и еще молодая бабенка с лицом тоже круглым, как блюдце, и засыпанным веснушками.
— А че тебе много раз ходить, если вместе мы быстрее дров наносим! — сказала она, и была в ее словах житейская правда, а может быть, и просто желание помочь умаявшемуся за рабочий день странному мужичку, который прибился к бабьей работе, а ни к кому из мужиков — ну там строителей, крестьян или красноармейцев — не примыкал.
Пошли они вместе с холма, а навстречу им поднимались уже красноармейские охотнички, и каждый нес какую-нибудь дичь, и видны были и зайцы, связанные за задние лапы, и пара лисиц, и куропатки или какие другие летающие. Шли красноармейцы радостные и довольные, и в глазах их блестела гордость своею добычею. И так заметна была их гордость, что почувствовал ангел на мгновение зависть к ним и тут же испугался этого чужого чувства. Откуда оно взялось?! Зачем? Ведь и гордиться никак нельзя убийствами и истреблениями животных тварей, созданных Богом?!
И крестьяне уже возвращались снизу, с поля. И строители, доделав какие-то дела, сходились к большому котлу, из которого их всех кормить будут за труды праведные. И красноармейцы, усевшись невдалеке, с усердием чистили винтовки, разговаривая вполголоса о разных удовольствиях этой жизни. А Трофим с еще одним бойцом ножами снимали шкуры с лисиц и зайцев.
Пришел к котлу и печник Захар. Пришел, попросил чуть-чуть воды, чтобы руки отмыть, и сообщил негромко, что все печи закончены и осталось их только прокалить изнутри. А также сказал, что со следующего дня наделает он из глины мисок, чтоб у каждого в коммуне своя была, а уж потом исполнит свою главную мечту — поставит внизу у реки большую коптильную печь, которую он сам придумал, и будет это единственная такая печь на всю землю и можно будет в ней закоптить и медведя целиком, и лося! И услышавшие эти обещания жадно сглотнули слюну и посмотрели на Захара с большим человеческим уважением.