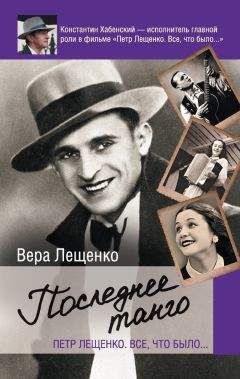Победителю? А ведь верно.
– Залезай‑ка лучше сюда, – предложила княжна. – Да поцелуй невесту покрепче. Теперь можно не таиться…
– Невесту?! – ярился резко протрезвевший князь Велимир. – Да чтоб я отдал свою единственную дочь за первого встречного?! Дудки!!!
Волосатый кукиш очутился под самым носом Гавейна.
– Батюшка! – топнула ножкой княжна. – Ты слово дал! Он победил по‑честному и оказался самым достойным!
Ответом ей стала все та же волосатая фига.
– Нехорошо, государь, – вступил в бой Вострец. – Слово перед всеми дадено… надобно держать…
– А ты помолчи, племяш! – окрысился на него князь. – Запамятовал уже, как за дерзкие речи из бояр в шуты угодил? А ведь и года не минуло! На конюшню хочешь, за лошадьми навоз прибирать?!
– Твоя воля, надежа, – твердо отвечал юноша, не обращая внимания на ошалелые взгляды Гавейна и Перси, уставившихся на новоявленного государева родственника. – Во всем и везде твоя власть. Но позволь молвить, что рыцарь Гав… Лысогор… – тут он кивнул на бритта, – не совсем первый встречный.
За сим последовала многозначительная пауза. Крепыш, уже неделю как взявший новое, куявское имя (спасибо сгинувшему Офигениусу, надоумил), важно приосанился, хотя и понятия не имел, что на уме у шута (или кто он там на самом деле).
– Да? – заинтересовался Велимир. – Ну‑ка, ну‑ка…
Вострец склонился к дядюшкину уху и начал что‑то быстро шептать. Княжеские брови взмывали то вверх, то вниз, словно птицы небесные.
– Хм! – почесал он бороду, когда брюнет закончил. – Ладно. Так и быть, пущай считается дочкиным женихом… До особого указу… Эх, жаль преосвященного нет. Тот бы уж наверняка дело присоветовал…
Вздохнул тяжелехонько и… протянул свой пустой кубок:
– Налейте, что ли. Надобно ж и выпить за нареченных…
Однако не успел Велимир и пригубить вино, как в княжескую ложу ворвался взволнованный Лют.
– Беда, государь! – Глаза сотника полыхали тревогой. – Тревожные вести из Искоростеня! Только что гонец от посадника Мала примчался!..
– Что там такое?! Опять этому болвану невесть что мерещится?!
– Вроде как взят город навьими! Дозволь, надежа, выступить в поход малой силой. Надобно бы проверить.
– Велю! Берешь свою сотню и еще… две из моей дружины.
Повернулся к троице иноземцев и невесело усмехнулся:
– Вот тебе, женишок, и дело. Отправляйся‑ка и ты на рать да докажи свою удаль. А вернешься, там и о свадьбе поговорим…
– Папенька! – запротестовала было княжна.
– Я все сказал!..
Глава 8
ПЕСНИ ПТИЦЫ АЛКОНОСТ
Лесок в окрестностях Киева
Сквозь сон его преосвященству показалось, что кто‑то тихонько бубнит у него над ухом. Но поскольку в его личной опочивальне никто без особого на то позволения самого владыки находиться не мог и не смел, то поначалу святой отец подумал, что постороннее бормотание ему снится. А потому он повернулся на другой бок и попытался снова заснуть.
Однако назойливые звуки упорно не желали исчезать.
Интересно, и кого это нелегкая принесла спозаранку? Никак Евлампий с очередной порцией доносов приперся. Не мог подождать, пока начальство проснется. Ведь наверняка ничего важного. Иначе сразу бы растолкал. А так треплет себе языком с кем попало…
Та‑ак! А ведь точно!
Как это он сразу не сообразил.
Голосов‑то два.
Причем один вроде как женский.
Судорожно порылся в памяти. Кажись, никого на ночь не оставлял. Так откуда ж быть бабе?!
Но до чего ж болит голова! Прямо раскалывается. Словно кто шандарахнул по ней чем тяжелым.
Чего это он такого пил на ночь глядя?
Снова Евлашка вино паленое приволок, злыдень. Сколько раз ему было говорено: бери в проверенном месте. Так нет же. Вот теперь пущай берет с собой десяток псов да приволочет продавца оной дряни в караульню на правеж. Предварительно арестовав весь товар для проверки. Вдруг мерзопакостник специально метаморфусами нанят, чтоб отравить царя‑батюшку и его ближайших сподвижников. Всякое может быть в это тревожное время.
Ух, дерзкие! И не уймутся же. Шуры‑муры, лясы‑балясы.
Вот ужо он им сейчас задаст перцу, чтоб знали свое место.
Епископ порывисто сел на ложе.
Резкая боль ударила в темя. Даже в глазах темно сделалось.
– У‑йе… – схватился руками за голову преосвященный.
И наткнулся… на огромную шишку, откуда‑то взявшуюся на макушке.
Так, так. И что ж это у нас получается? Выходит, что и впрямь оглоушили?!
– Кто посме‑ел?! – заорал раненым зверем.
– Что, батька, никак очухался? – послышался приветливый и совершенно незнакомый мальчишеский голос. – Давно пора. Третий день как в беспамятстве.
«Третий день?! Это он о чем?! И вообще, где это я?!»
Находился явно не в своей опочивальне, а в какой‑то убогой избе.
С трудом повернул голову на говор.
И оторопел.
Рука непроизвольно сотворила крестное знамение.
– Да воскреснет Бог и расточатся врази его! – пролепетал одеревеневший язык. – Сгинь, сгинь, рассыпься!
Прямо напротив него сидел на лавке самый настоящий… бес. Ну, положим, не бес, а бесенок. Но от этого не было легче. Зыркает зелеными зенками и глумливо скалится.
– Во искушение мне посланный, исчезни, адово исчадие!
– Ишь, Бублик, как он тебя честит, – раздался второй, чистый и звонкий девичий голосок. – Нет бы спасибо сказать за то, что ты его нашел, сюда притащил, медведищу этакого, мазью целебной умастил. Надо было его там, в лесу, бросить. Волкам на съедение.
Странно. Несмотря на то что речь эта не отличалась любезностью, в голове преосвященного от ее звучания как‑то сразу прояснилось. И когда он обернулся, чтобы рассмотреть говорившую, боли уже не было.
Но лучше б не поворачивался. Так как угодил, что называется, из огня да в полымя. Ибо бесенок по сравнению с ЭТИМ был еще малым испытанием.
Огромная, в половину человеческого роста птица примостилась на табурете у стола. Определить, какой именно породы пернатое, было затруднительно. Никогда прежде Ифигениус не встречал таких.
Больше всего ОНО напоминало голубя. Но раскраской оперения походило на павлина. Хотя нет, куда там жар‑птице до ЭТОГО. У той преобладают изумрудные оттенки. И лишь «глаза» сияют синим да темно‑красным цветами. Здесь же смешались белоснежно‑белый и небесно‑голубой колера. Как на редких фарфоровых вазах, привезенных из далекого Китая. Однако изделия искусных хинских мастеров не обладают жизненной искрой, что ли. Радуют глаз и все ж какие‑то холодные. А перья удивительной птицы, казалось, огнем полыхают. Но не тем, опаляющим и опасным для человека, а тихим пламенем солнечного ясного неба, которое радует глаз, успокаивает сердце, настраивая душу на мысли чистые и возвышенные.
Да не это было самым чудным. Ну, птица и птица. Всякие среди них встречаются. И яркие, и невзрачные, и совсем крохотные, и гигантские. Иные даже и говорить умеют. Само собой, без разума, лишь подражая людскому голосу.
ЭТА была разумной. Сразу видно. Стоило поглядеть в лукавые глаза под изогнутыми черными бровями.
Птичье подобие доходило до груди. А дальше начиналось…
Дальше было диво‑дивное.
Перья исчезали, открывая взору два аппетитных полушария, сияющие белоснежной чистотой и манящие некрупными малинами сосков. Выше – изящная шейка, словно вырезанная из слоновой кости. И, наконец, озорное девичье лицо с румяными щеками, украшенными милыми ямочками, алыми пухлыми губами, чуть вздернутым носиком и широко распахнутыми голубыми глазами. Черные густые волосы были заплетены в причудливую прическу, напоминавшую короны ахайских цариц. Венчала голову чудо‑птицы тяжелая золотая диадема, украшенная такими крупными яхонтами и лалами, которых владыка еще ни разу на своем веку не видел. В девичьих ушках болтались такие же золотые с каменьями серьги.
– Чего уставился, дед? – нахмурилось личико.
– Э‑э‑э… мм, – промямлил Кукиш, тщетно пытаясь оторвать глаза от созерцания девичьих прелестей.
– Нечего куда попало пялиться, извращенец! – возмутилась птица и довольно ощутимо хлопнула одним крылом прямо по епископской физиономии, а затем, уже двумя, стыдливо прикрыла грудь. – Стар уже! Да и грешно, ты ж вроде как священник?!
Ифигениус схватился за щеку, полыхнувшую было болью, тут же и унявшейся.
– Не сердись на него, Аля, – вступился за преосвященного бесенок. – Он небось в первый раз живого алконоста зрит.
– Еще бы не первый! – довольно потянулась синеперая, широко расправив крылья и позабыв о девичьем стыде. – Ты‑то сам помнишь, как мы впервой встретились? Ну и видок у тебя, паря, был!
Она расхохоталась, заклекотав совсем по‑птичьи.
– Че, дед, нравлюсь? – подмигнула, когда владыка уже начал было успокаиваться.
И повела этак плечами.
Фига зажмурился от такого соблазна.
– Не боись, на тот свет не утащу, – пообещала Аля. – Разве только в Ирий. Хотя… – Смерила епископа скептическим взглядом. – Куда тебе, греховодник, в Ирий‑то… Столько пакостей сотворил, сколько бед принес, что вовек не отмолишь…